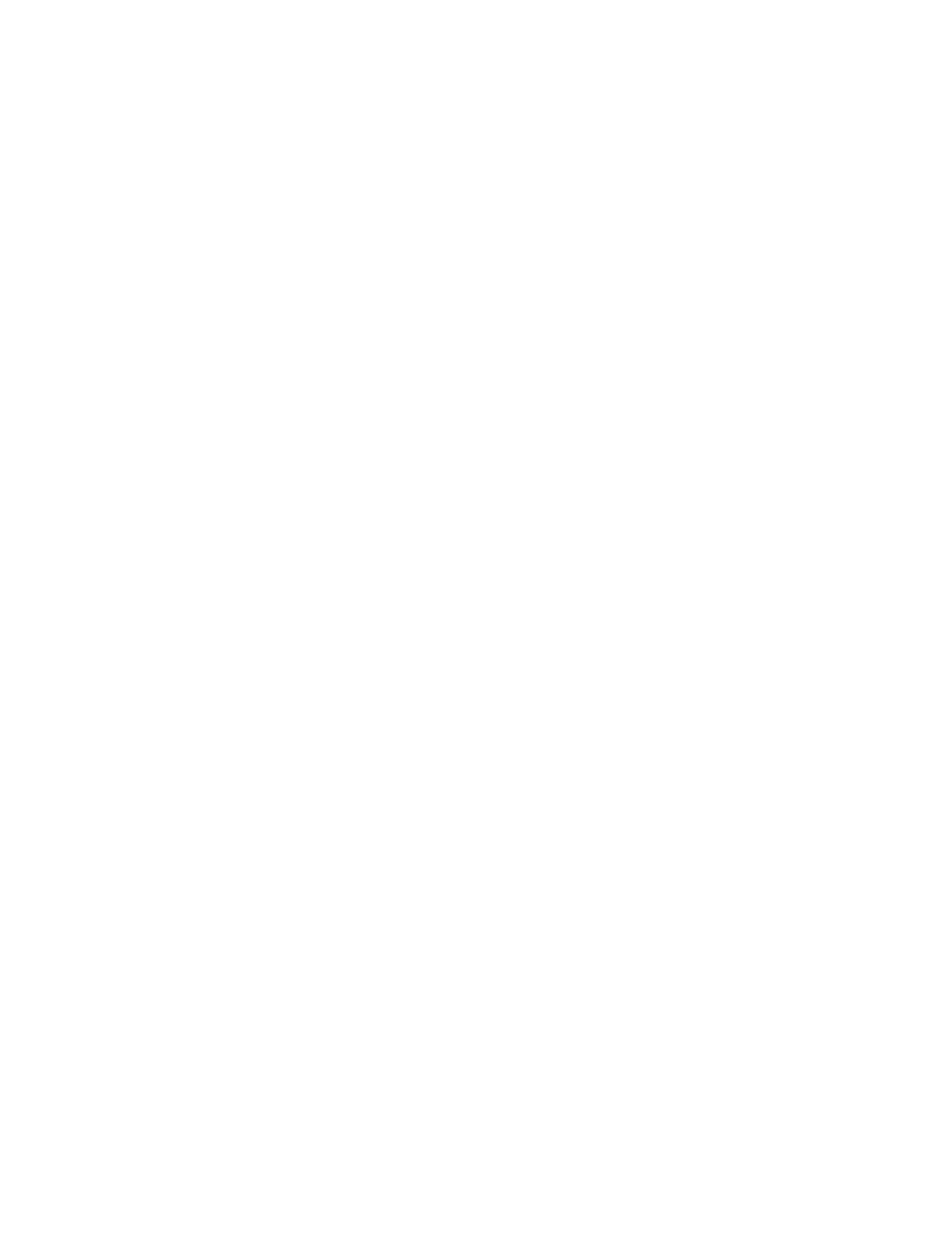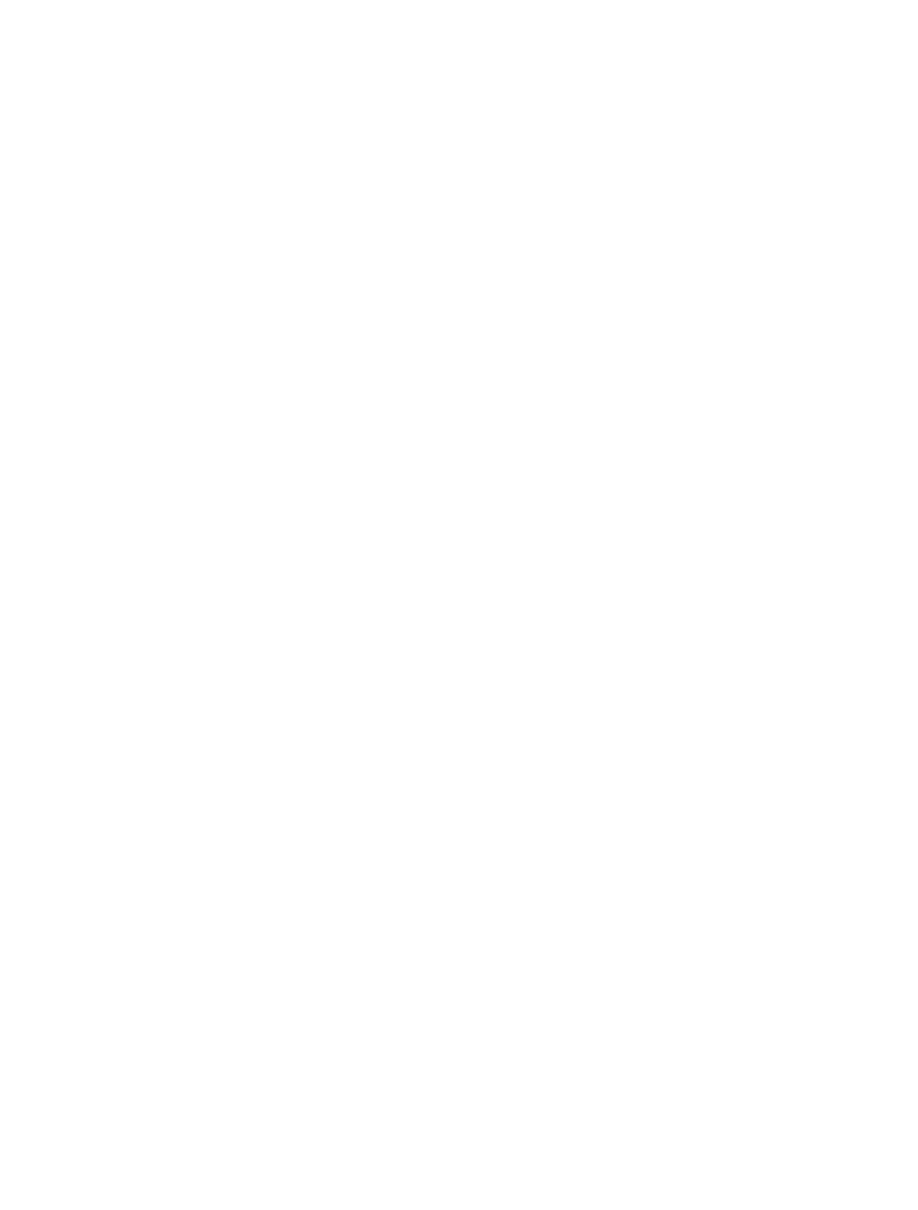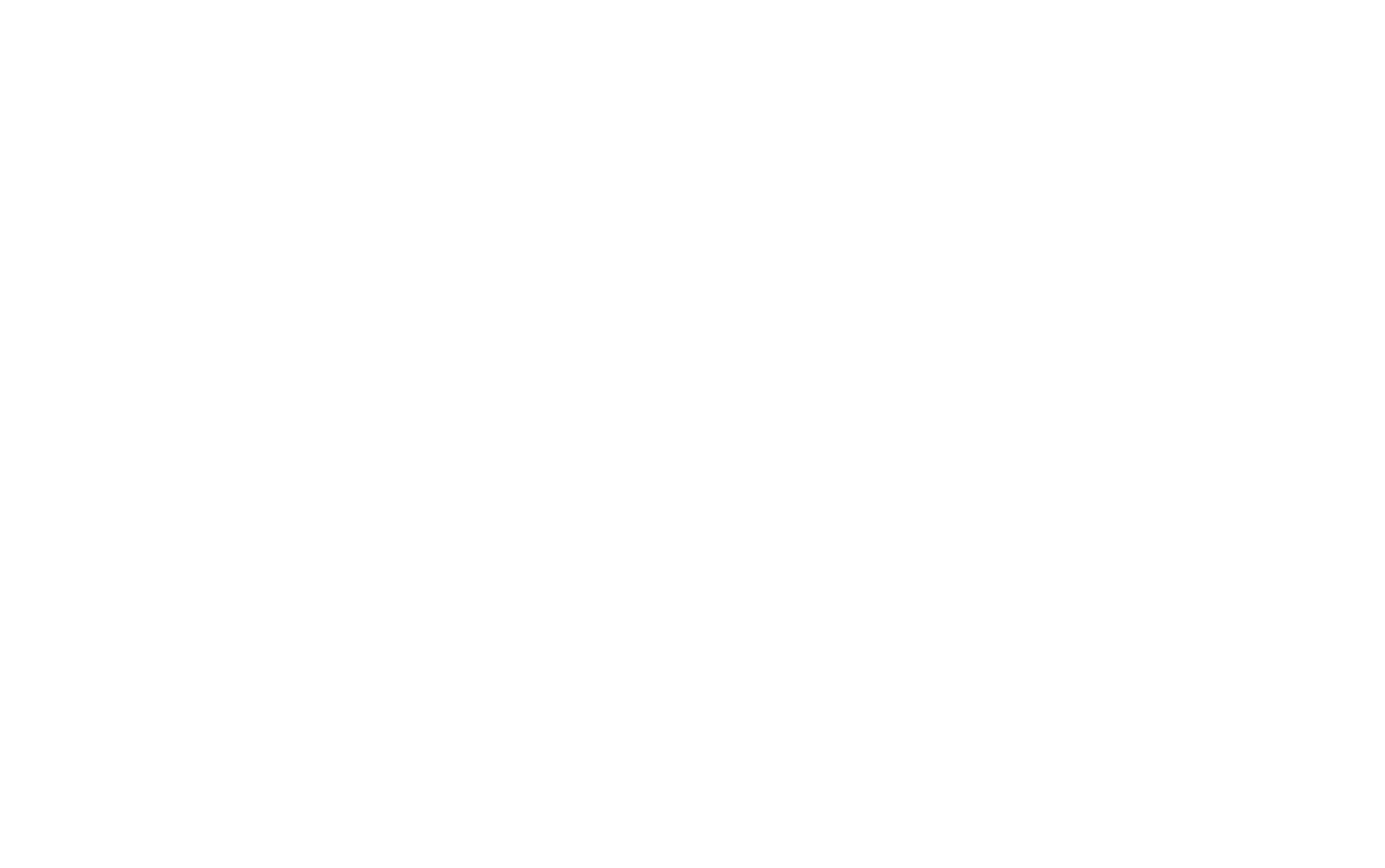Фестиваль в СМИ
Телевидение
Первый концерт Фестиваля в Мультимедиа Арт Музее. Композитор Элвин Люсье приглашает порассуждать о реальности на языке экспериментальной музыки. Он исследует акустику пространств, физическую природу звука и психологию его восприятия.
У этой пьесы Люсье два варианта исполнения - в полной темноте или с завязанными глазами. Главное, чтобы музыканты ориентировались только на слух, как летучие мыши. Вместо инструментов - эхо-локаторы, вместо музыки - рикошетом отскакивающие от стен звуки. Люсье утверждает, что это отличный способ "переживания" пространства.
Сам он не любит слово "экспериментальная", но считает, что только оно может описать музыку, идущую не из истории, как у Стравинского и Шнитке, а от науки и феноменологии.
У этой пьесы Люсье два варианта исполнения - в полной темноте или с завязанными глазами. Главное, чтобы музыканты ориентировались только на слух, как летучие мыши. Вместо инструментов - эхо-локаторы, вместо музыки - рикошетом отскакивающие от стен звуки. Люсье утверждает, что это отличный способ "переживания" пространства.
Сам он не любит слово "экспериментальная", но считает, что только оно может описать музыку, идущую не из истории, как у Стравинского и Шнитке, а от науки и феноменологии.
Репортаж от Телеканала "Культура" от 2/10/2017
Второй концерт Элвин Люсье в рамках фестиваля в Московском Доме Музыки. 4 октября в Камерном зале он исполнит свой знаменитый перформанс «Я сижу в комнате». Также в программе – мировая премьера нового сочинения Элвина Люсье "Sickle" для солирующего терменвокса, ансамбля и live-электроники, написанная по заказу "Траектории Музыки", которую представит Московский ансамбль современной музыки. Американский ударник Тревор Сейнт исполнит одно из последних сочинений Люсье – Ricochet Lady для колокольчиков соло. А пианист Михаил Дубов - хит Люсье по мотивам песни группы The Beatles «Strawberry Fields Forever» – Nothing Is Real для фортепиано, акустически усиленного чайника, записывающего устройства и миниатюрной аудио-системы.
Репортаж РБК от 3/10/2017
Рецензии
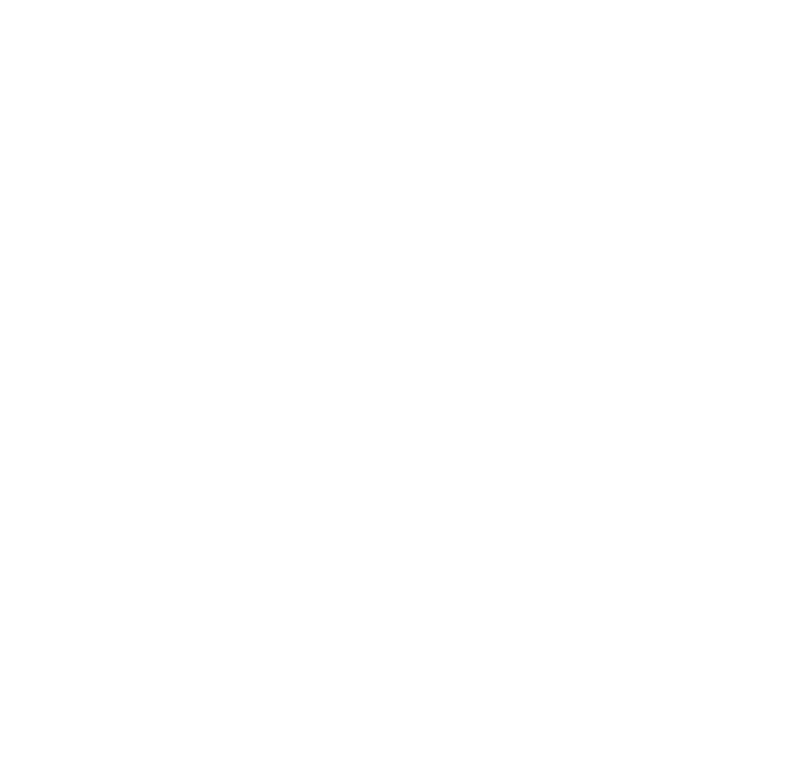
Играем сначала / За пределами восприятия, №11 (159) Ноябрь 2017, автор Северина Ирина, на фото: Э. Люсье и А. Гущян, Фото Виолы Руше
ИГРАЕМ СНАЧАЛА/ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОСПРИЯТИЯ
СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОСПРИЯТИЯ
Международный фестиваль-ретроспектива Элвина Люсье Everything is Real, посвященный творчеству американского первопроходца саунд-арта, прошел 2–7 октября в Москве
Элвин приехал собственной персоной, несмотря на почтенный возраст (86 лет) и серьезную стадию болезни Паркинсона. Мало того, что он лично участвовал в исполнении некоторых своих опусов, он еще и читал лекции о своей музыке и своих друзьях – композиторах нью-йоркской школы, о перформансах, провел мастер-класс для московских композиторов. Поразительно, насколько ему удалось сохранить чувство юмора: на одной из лекций, желая завершить растянувшееся общение с публикой, он заметил, что слишком много говорит для человека, у которого проблемы с речью…
«Когда я искал название для фестиваля и просматривал в связи с этим произведения Люсье, то нашел одно замечательное название – Nothing is Real («Ничто не настоящее»), – рассказывает художественный руководитель фестиваля композитор Арман Гущян. – Но все-таки оно не очень подходило к творчеству Люсье в целом. А потом я случайно обнаружил, что однажды Элвин читал лекцию, которую озаглавил Everything is Real («Все настоящее»), и это стало названием фестиваля». Однако сам Элвин считает, что Everything is Real произошло как раз от Nothing is Real. «Ничто не настоящее» было исполнено в одном из концертов, и, между прочим, заказавшая сочинение японская пианистка Аки Такахаши эти слова из песни «Битлз» Strawberry Fields Forever ассоциирует именно с музыкой Люсье. У каждого свои аналогии и ассоциации.
В концерте под названием The New York School в Мультимедиа Арт Музее исполнялись произведения Джона Кейджа и Мортона Фелдмана, а также Элвина Люсье и Джеймса Тенни, на которых идеи нью-йоркского круга композиторов, художников и поэтов заметно повлияли. Развивая идеи Кейджа, Люсье фокусируется на поведении звука в пространстве, исследует его физическую природу, траекторию его движения, психологию и физиологию его восприятия. И хотя опусы Люсье оказываются за пределами восприятия произведения искусства в привычном смысле слова, притягательная сила его экспериментов определенно существует. Недаром концерты фестиваля собирали аншлаги (аудиторию составляла в основном консерваторская молодежь, все принимавшая с энтузиазмом).
Небольшая саунд-арт-пьеса Vespers (1969) – это, прежде всего, демонстрация акустической идеи с пространным авторским комментарием: «Четыре исполнителя перемещаются в пространстве затемненного помещения с приборами эхолокации Sondol – ручными генераторами импульсной волны, издающими резкие короткие щелчки, частота повторения которых может варьироваться. Исполнители направляют эти звуки в разные точки пространства таким образом, чтобы они отскакивали рикошетом от стен, пола, потолка. Звуки преломляются отражающими поверхностями, образуя множественные эхо-сигналы, и постепенно возникает акустическая "подпись комнаты". Слово vespers отсылает к названию вида обыкновенных летучих мышей семейства гладконосых (Vespertilionidae) – "экспертов" в искусстве эхолокации». Текст красивый и занятный, но его музыкальная реализация кажется слишком простой, без участия собственно композиторской работы. Как говорил Арнольд Шёнберг о Джоне Кейдже: «он не композитор, а изобретатель», – так же можно сказать и об Элвине Люсье. Не стоит вкладывать в это высказывание негативного смысла, а стоит попытаться понять саунд-арт Люсье с точки зрения законов, которые устанавливает он сам.
Вместо затенения зала исполнителям завязали глаза, так что они ориентировались в пространстве действительно подобно летучим мышам. Кстати, с последними у Элвина особые отношения. Об этом он не раз с удовольствием рассказывал на встречах. Суть в том, что он прочитал книгу о летучих мышах, и его поразил тот факт, что они должны использовать звук, чтобы выживать (как известно, они посылают звуковой сигнал и ловят эхо от всех поверхностей и объектов, в том числе от насекомых, получая представление о местонахождении пищи). Элвин решил перенести этот принцип на музыкальный перформанс, его вдохновляла возможность услышать эхо с разных сторон. Он считает, что если есть идея, в жизни всегда найдутся возможности ее реализации (можно позавидовать его оптимизму), и действительно, нашелся человек, который работал в компании, производящей специальные приборы эхолокации для слепых.
Конечно, это не единственная идея Люсье. Вот, например, его не менее пространный комментарий к сочинению Navigations, исполненному в том же концерте. «Идея возникла в 1980 году во время записи звуков электромагнитных колебаний ионосферы Земли на вершине Колорадо. Когда я прослушал кассеты, то обратил внимание на присутствие высокочастотных сигналов, которые повторялись с неестественной регулярностью. Позже я узнал, что это сигналы навигационной системы Omega, используемые для определения местоположения самолетов и кораблей по всему миру и управления ими. Я был очарован естественными радиоизлучениями из ионосферы, но меня раздражали постоянные искусственные звуки радиосети Omega. Ни фильтрами, ни редактированием убрать их не получалось. На протяжении многих лет эти тоны преследовали меня. Я часто обнаруживал, что напеваю или насвистываю их в течение дня. Со временем я постепенно сжал их в одну мелодическую фразу из четырех тонов (h-a-b-as) и частенько подумывал о том, чтобы использовать их в сочинении. Когда меня попросили написать квартет, я решил положиться на этих дружелюбных, но настойчивых музыкальных призраков. Я хотел сделать так, чтобы тоны Omega исчезли. Один из способов – медленно сжать терцию в один тон. С помощью простой системы нумерации я выписал длинную последовательность постоянно меняющихся мелодических и инструментальных комбинаций изначальных четырех тонов. Переходя от одной комбинации к другой, исполнители постепенно берут высоту чуть выше и чуть ниже – настолько, чтобы это было незаметно для нашего уха. По мере сжатия интервала они постепенно понижают динамический уровень и замедляют темп, позволяя звукам удлиняться подобно теням и отступать в атмосферу комнаты. На протяжении всего сочинения мы слышим акустические биения, обусловленные звуковысотной разностью между тонами. Начиная с 14, 13 и 12 раз в секунду постепенно биения замедляются до нуля – при достижении унисона». Текст, опять же, красив, артистичен и содержателен, но звуковая реализация, думается, вовсе не обязательна – ее вполне достаточно вообразить. Тем более что основное тут «незаметно для нашего уха», то есть за пределами восприятия. Комментарий может существовать независимо от исполнения, а вот исполнение независимо от комментария – вряд ли.
Главный концерт фестиваля прошел в Камерном зале Дома музыки, где исполнялись только сочинения Элвина Люсье, в том числе его самый знаменитый перформанс I am sitting in a room (1969). Характерный комментарий автора: «Мне хотелось, чтобы эта композиция была свободной как от поэтического, так и от эстетического содержания, чтобы она не имела ничего общего с искусством». Это работа с фонетикой речи, которая понимается как музыкальный материал: «Я поставил микрофон в гостиной, сел в кресло, прочитал текст в микрофон и записал его. Готовую запись я воспроизвел в той же самой комнате, сделав копию оригинала. Затем я повторял эту процедуру до тех пор, пока у меня не получилось пятнадцать копий и оригинал. Я работал всю ночь. По мере того, как процесс продолжался, комната все больше резонировала, а речь становилась все менее разборчивой. Речь становилась музыкой, и это было волшебно». Элвин сидел на стуле в центре сцены и читал текст (кстати, могли бы уж найти и кресло для полной аутентичности), а на экране демонстрировалось, вероятно, то самое кресло, в котором он сидел той самой ночью. Изображение становилось все более стертым по мере того, как речь – менее разборчивой.
Этот саунд-арт-перформанс вспоминается еще по фестивалю «Московская осень» 1997 года: ровно 20 лет назад его автор приезжал на международную композиторскую конференцию «Страсти по поставангарду», организованную Виктором Екимовским, а затем было исполнение в одном из концертов. Правда, тогда было исполнение с фонограммой, а теперь все записывалось и перезаписывалось в реальном времени. Наверное, резкий сигнал – помеха микрофона, которая попала в изначальную запись и потом дублировалась во всех остальных перезаписях, – это тоже «подпись комнаты», ну или Камерного зала ММДМ.
Также в авторском исполнении на фестивале были показаны перформансы Music for Solo Performer (1965) для исполнителя, многократно усиленных мозговых ритмов и ударных инструментов, Bird and Person Dyning (1975) для исполнителя с бинауральными микрофонами, громкоговорителей и электронных звуков. Им же была посвящена отдельная лекция Люсье.
Из того, что еще звучало, – пьеса Ricochet Lady (2016) для колокольчиков соло в исполнении американца Тревора Сейнта, для которого она и была написана и который впервые сыграл ее в прошлом году в Нью-Йорке. Название связано с высказыванием Мортона Фелдмана по поводу своего произведения Why Patterns: «Я не чувствовал ни малейших угрызений совести от того, что придал колокольчикам интонацию, так сказать, благородной дамы». Ricochet – потому что колокольчики устанавливаются возле стены, в Камерном зале – где-то на верхотуре, и, как уверяет автор, когда звуки отскакивают от стены и перемещаются в пространстве, они меняют свои свойства. Ricochet Lady Люсье – тоже, строго говоря, не композиция, а идея, но тембр колокольчиков приятен для слуха сам по себе.
И еще об одном сочинении-идее, которое писалось специально для фестиваля, – Sickle («Серп», 2017, мировая премьера) для солирующего терменвокса с системой цифрового дилея, флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Терменвоксистка Олеся Ростовская в течение 20 минут рисовала в воздухе контур серпа. Остальные – солисты «Московского ансамбля современной музыки» – создавали акустические биения, частота которых зависела от степени близости между фиксированными высотами акустических инструментов и медленным глиссандо терменвокса. Sickle был вдохновлен «Анной Карениной» Толстого, а конкретно – сценой сенокоса. Конечно, никакой Толстой там не прослушивался, но серп чисто визуально был запечатлен.
Программа была переполнена событиями: помимо других концертов, состоялся просмотр документального фильма об Элвине Люсье «Нет идей вне вещей» (режиссеры Хауке Хардер и Виола Руше). Хауке Хардер, который тоже приехал лично, еще заведовал звуковым дизайном и прочитал лекцию «Звук и пространство. Звуковые инсталляции Элвина Люсье».
В фестивале участвовали ведущие российские ансамбли, специализирующиеся на современной музыке, – кроме уже упоминавшегося МАСМ, это струнный квартет «Студия новой музыки», ансамбль Questa Musica, солисты Михаил Дубов (фортепиано), Иван Бушуев (флейта, звуковой дизайн), а также Александр Хубеев (звуковой дизайн), Владимир Горлинский, Арман Гущян, Саша Елина, Алексей Сысоев и Кирилл Широков (перформанс). Кажется, Люсье остался доволен и исполнением, и тем, как его принимали. Публика даже устроила овацию стоя.
СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОСПРИЯТИЯ
Международный фестиваль-ретроспектива Элвина Люсье Everything is Real, посвященный творчеству американского первопроходца саунд-арта, прошел 2–7 октября в Москве
Элвин приехал собственной персоной, несмотря на почтенный возраст (86 лет) и серьезную стадию болезни Паркинсона. Мало того, что он лично участвовал в исполнении некоторых своих опусов, он еще и читал лекции о своей музыке и своих друзьях – композиторах нью-йоркской школы, о перформансах, провел мастер-класс для московских композиторов. Поразительно, насколько ему удалось сохранить чувство юмора: на одной из лекций, желая завершить растянувшееся общение с публикой, он заметил, что слишком много говорит для человека, у которого проблемы с речью…
«Когда я искал название для фестиваля и просматривал в связи с этим произведения Люсье, то нашел одно замечательное название – Nothing is Real («Ничто не настоящее»), – рассказывает художественный руководитель фестиваля композитор Арман Гущян. – Но все-таки оно не очень подходило к творчеству Люсье в целом. А потом я случайно обнаружил, что однажды Элвин читал лекцию, которую озаглавил Everything is Real («Все настоящее»), и это стало названием фестиваля». Однако сам Элвин считает, что Everything is Real произошло как раз от Nothing is Real. «Ничто не настоящее» было исполнено в одном из концертов, и, между прочим, заказавшая сочинение японская пианистка Аки Такахаши эти слова из песни «Битлз» Strawberry Fields Forever ассоциирует именно с музыкой Люсье. У каждого свои аналогии и ассоциации.
В концерте под названием The New York School в Мультимедиа Арт Музее исполнялись произведения Джона Кейджа и Мортона Фелдмана, а также Элвина Люсье и Джеймса Тенни, на которых идеи нью-йоркского круга композиторов, художников и поэтов заметно повлияли. Развивая идеи Кейджа, Люсье фокусируется на поведении звука в пространстве, исследует его физическую природу, траекторию его движения, психологию и физиологию его восприятия. И хотя опусы Люсье оказываются за пределами восприятия произведения искусства в привычном смысле слова, притягательная сила его экспериментов определенно существует. Недаром концерты фестиваля собирали аншлаги (аудиторию составляла в основном консерваторская молодежь, все принимавшая с энтузиазмом).
Небольшая саунд-арт-пьеса Vespers (1969) – это, прежде всего, демонстрация акустической идеи с пространным авторским комментарием: «Четыре исполнителя перемещаются в пространстве затемненного помещения с приборами эхолокации Sondol – ручными генераторами импульсной волны, издающими резкие короткие щелчки, частота повторения которых может варьироваться. Исполнители направляют эти звуки в разные точки пространства таким образом, чтобы они отскакивали рикошетом от стен, пола, потолка. Звуки преломляются отражающими поверхностями, образуя множественные эхо-сигналы, и постепенно возникает акустическая "подпись комнаты". Слово vespers отсылает к названию вида обыкновенных летучих мышей семейства гладконосых (Vespertilionidae) – "экспертов" в искусстве эхолокации». Текст красивый и занятный, но его музыкальная реализация кажется слишком простой, без участия собственно композиторской работы. Как говорил Арнольд Шёнберг о Джоне Кейдже: «он не композитор, а изобретатель», – так же можно сказать и об Элвине Люсье. Не стоит вкладывать в это высказывание негативного смысла, а стоит попытаться понять саунд-арт Люсье с точки зрения законов, которые устанавливает он сам.
Вместо затенения зала исполнителям завязали глаза, так что они ориентировались в пространстве действительно подобно летучим мышам. Кстати, с последними у Элвина особые отношения. Об этом он не раз с удовольствием рассказывал на встречах. Суть в том, что он прочитал книгу о летучих мышах, и его поразил тот факт, что они должны использовать звук, чтобы выживать (как известно, они посылают звуковой сигнал и ловят эхо от всех поверхностей и объектов, в том числе от насекомых, получая представление о местонахождении пищи). Элвин решил перенести этот принцип на музыкальный перформанс, его вдохновляла возможность услышать эхо с разных сторон. Он считает, что если есть идея, в жизни всегда найдутся возможности ее реализации (можно позавидовать его оптимизму), и действительно, нашелся человек, который работал в компании, производящей специальные приборы эхолокации для слепых.
Конечно, это не единственная идея Люсье. Вот, например, его не менее пространный комментарий к сочинению Navigations, исполненному в том же концерте. «Идея возникла в 1980 году во время записи звуков электромагнитных колебаний ионосферы Земли на вершине Колорадо. Когда я прослушал кассеты, то обратил внимание на присутствие высокочастотных сигналов, которые повторялись с неестественной регулярностью. Позже я узнал, что это сигналы навигационной системы Omega, используемые для определения местоположения самолетов и кораблей по всему миру и управления ими. Я был очарован естественными радиоизлучениями из ионосферы, но меня раздражали постоянные искусственные звуки радиосети Omega. Ни фильтрами, ни редактированием убрать их не получалось. На протяжении многих лет эти тоны преследовали меня. Я часто обнаруживал, что напеваю или насвистываю их в течение дня. Со временем я постепенно сжал их в одну мелодическую фразу из четырех тонов (h-a-b-as) и частенько подумывал о том, чтобы использовать их в сочинении. Когда меня попросили написать квартет, я решил положиться на этих дружелюбных, но настойчивых музыкальных призраков. Я хотел сделать так, чтобы тоны Omega исчезли. Один из способов – медленно сжать терцию в один тон. С помощью простой системы нумерации я выписал длинную последовательность постоянно меняющихся мелодических и инструментальных комбинаций изначальных четырех тонов. Переходя от одной комбинации к другой, исполнители постепенно берут высоту чуть выше и чуть ниже – настолько, чтобы это было незаметно для нашего уха. По мере сжатия интервала они постепенно понижают динамический уровень и замедляют темп, позволяя звукам удлиняться подобно теням и отступать в атмосферу комнаты. На протяжении всего сочинения мы слышим акустические биения, обусловленные звуковысотной разностью между тонами. Начиная с 14, 13 и 12 раз в секунду постепенно биения замедляются до нуля – при достижении унисона». Текст, опять же, красив, артистичен и содержателен, но звуковая реализация, думается, вовсе не обязательна – ее вполне достаточно вообразить. Тем более что основное тут «незаметно для нашего уха», то есть за пределами восприятия. Комментарий может существовать независимо от исполнения, а вот исполнение независимо от комментария – вряд ли.
Главный концерт фестиваля прошел в Камерном зале Дома музыки, где исполнялись только сочинения Элвина Люсье, в том числе его самый знаменитый перформанс I am sitting in a room (1969). Характерный комментарий автора: «Мне хотелось, чтобы эта композиция была свободной как от поэтического, так и от эстетического содержания, чтобы она не имела ничего общего с искусством». Это работа с фонетикой речи, которая понимается как музыкальный материал: «Я поставил микрофон в гостиной, сел в кресло, прочитал текст в микрофон и записал его. Готовую запись я воспроизвел в той же самой комнате, сделав копию оригинала. Затем я повторял эту процедуру до тех пор, пока у меня не получилось пятнадцать копий и оригинал. Я работал всю ночь. По мере того, как процесс продолжался, комната все больше резонировала, а речь становилась все менее разборчивой. Речь становилась музыкой, и это было волшебно». Элвин сидел на стуле в центре сцены и читал текст (кстати, могли бы уж найти и кресло для полной аутентичности), а на экране демонстрировалось, вероятно, то самое кресло, в котором он сидел той самой ночью. Изображение становилось все более стертым по мере того, как речь – менее разборчивой.
Этот саунд-арт-перформанс вспоминается еще по фестивалю «Московская осень» 1997 года: ровно 20 лет назад его автор приезжал на международную композиторскую конференцию «Страсти по поставангарду», организованную Виктором Екимовским, а затем было исполнение в одном из концертов. Правда, тогда было исполнение с фонограммой, а теперь все записывалось и перезаписывалось в реальном времени. Наверное, резкий сигнал – помеха микрофона, которая попала в изначальную запись и потом дублировалась во всех остальных перезаписях, – это тоже «подпись комнаты», ну или Камерного зала ММДМ.
Также в авторском исполнении на фестивале были показаны перформансы Music for Solo Performer (1965) для исполнителя, многократно усиленных мозговых ритмов и ударных инструментов, Bird and Person Dyning (1975) для исполнителя с бинауральными микрофонами, громкоговорителей и электронных звуков. Им же была посвящена отдельная лекция Люсье.
Из того, что еще звучало, – пьеса Ricochet Lady (2016) для колокольчиков соло в исполнении американца Тревора Сейнта, для которого она и была написана и который впервые сыграл ее в прошлом году в Нью-Йорке. Название связано с высказыванием Мортона Фелдмана по поводу своего произведения Why Patterns: «Я не чувствовал ни малейших угрызений совести от того, что придал колокольчикам интонацию, так сказать, благородной дамы». Ricochet – потому что колокольчики устанавливаются возле стены, в Камерном зале – где-то на верхотуре, и, как уверяет автор, когда звуки отскакивают от стены и перемещаются в пространстве, они меняют свои свойства. Ricochet Lady Люсье – тоже, строго говоря, не композиция, а идея, но тембр колокольчиков приятен для слуха сам по себе.
И еще об одном сочинении-идее, которое писалось специально для фестиваля, – Sickle («Серп», 2017, мировая премьера) для солирующего терменвокса с системой цифрового дилея, флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Терменвоксистка Олеся Ростовская в течение 20 минут рисовала в воздухе контур серпа. Остальные – солисты «Московского ансамбля современной музыки» – создавали акустические биения, частота которых зависела от степени близости между фиксированными высотами акустических инструментов и медленным глиссандо терменвокса. Sickle был вдохновлен «Анной Карениной» Толстого, а конкретно – сценой сенокоса. Конечно, никакой Толстой там не прослушивался, но серп чисто визуально был запечатлен.
Программа была переполнена событиями: помимо других концертов, состоялся просмотр документального фильма об Элвине Люсье «Нет идей вне вещей» (режиссеры Хауке Хардер и Виола Руше). Хауке Хардер, который тоже приехал лично, еще заведовал звуковым дизайном и прочитал лекцию «Звук и пространство. Звуковые инсталляции Элвина Люсье».
В фестивале участвовали ведущие российские ансамбли, специализирующиеся на современной музыке, – кроме уже упоминавшегося МАСМ, это струнный квартет «Студия новой музыки», ансамбль Questa Musica, солисты Михаил Дубов (фортепиано), Иван Бушуев (флейта, звуковой дизайн), а также Александр Хубеев (звуковой дизайн), Владимир Горлинский, Арман Гущян, Саша Елина, Алексей Сысоев и Кирилл Широков (перформанс). Кажется, Люсье остался доволен и исполнением, и тем, как его принимали. Публика даже устроила овацию стоя.
Интервью
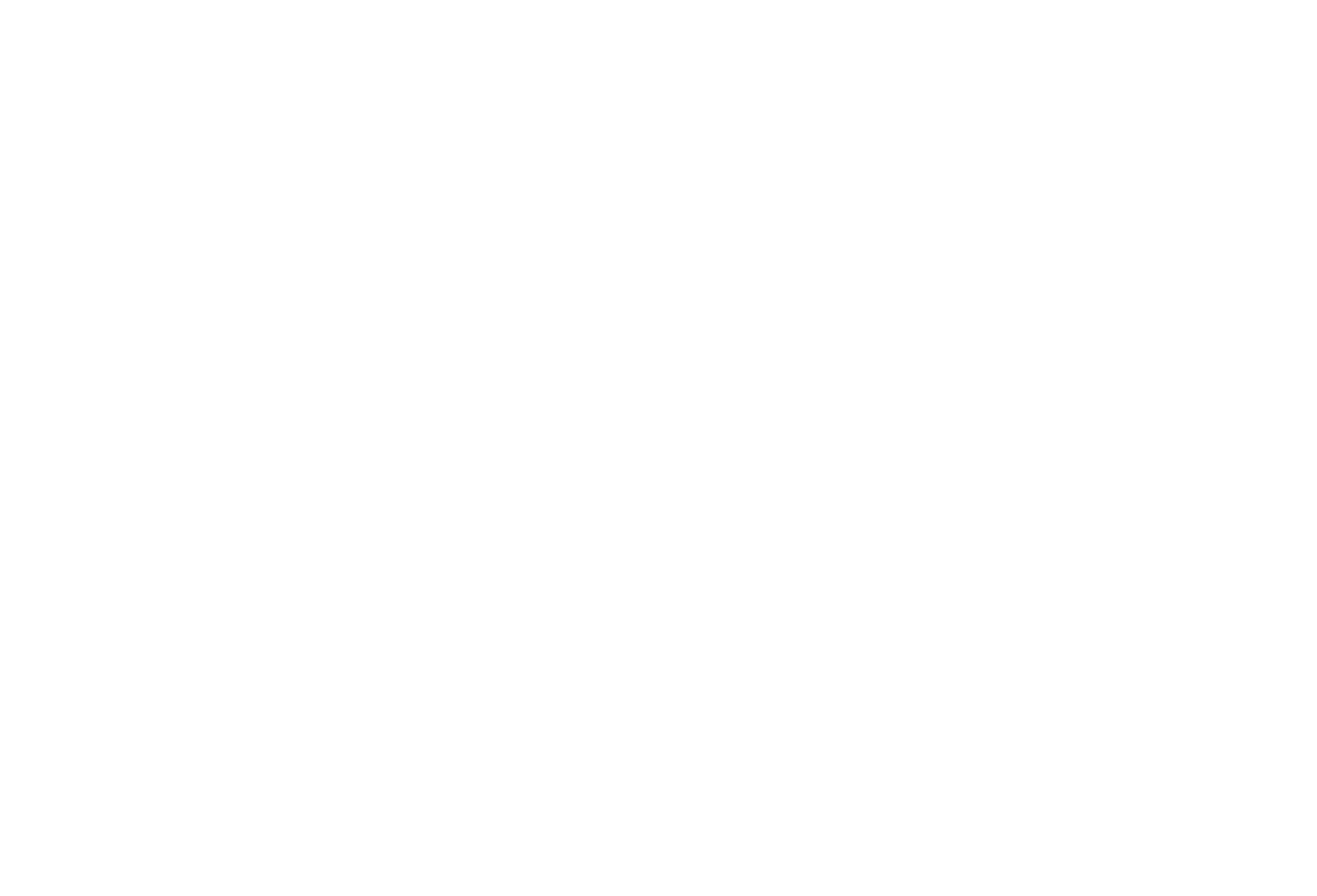
Со 2 по 7 октября в Москве проходил фестиваль Everything is real, посвященный музыке американского композитора Элвина Люсье — смелого экспериментатора, продолжателя и ученика пионера академического музыкального авангарда Джона Кейджа. Корреспондент Rara Avis Дарья Лебедева сходила на концерт в Новом пространстве Театра Наций и услышала пять композиций Элвина Люсье.
Зал был переполнен, мест не хватило, люди густо стояли вдоль стен. Многие еще на входе вынуждены были уйти, так как не досталось билетов. А ведь речь шла о достаточно сложной для восприятия музыке, в которой нет ни ритма, ни темпа, ни тональности, ни гармонии: вообще ничего, на что мы привыкли опираться во время прослушивания. В зале присутствовал сам Элвин Люсье — он то опускал, то вскидывал острый птичий профиль, но слушал очень внимательно. Пообщавшись с ним после концерта, я поняла, что он полностью погружен в этот мир. Почувствовала, насколько для него важно то, что он делает. Его необычные сочинения — не притворство, не желание выделиться, не эпатаж. В этом вечном поиске, попытках пощупать, осмыслить звук заключен смысл его жизни.
Художественный руководитель и организатор фестиваля композитор Арман Гущян, считающий произведения Элвина Люсье важнейшим явлением современной музыки, пять лет вел с ним переговоры. Наконец фестиваль состоялся. Предваряя концерт, Гущян сказал, что пять пьес, выбранных для исполнения, наиболее ярко демонстрируют идею Элвина Люсье. Действительно, несмотря на то, что композиции оказались непохожими друг на друга, все они раскрывали одну концепцию: найти музыку там, где никто не привык ее искать, и показать, что звук в академической музыке — не только тот, что издает инструмент.
Исполняя композицию Opera with Objects, музыканты стучали карандашами по банкам, бутылкам, коробкам и другим емкостям — пытаясь обнаружить резонансный отклик этих объектов, чтобы затем усиливать его, меняя интенсивность, тембр и громкость. Из тихого стука постепенно вырастал ритмичный рисунок (сидевший в зале Люсье постукивал пальцами в такт). Следующая композиция Memory Space воспроизводила заранее записанные звуки окружающей среды. Музыканты играли в наушниках, в реальном времени повторяя с помощью инструментов то, что слышат (судя по тому, что звучало, перед нами раскинулся городской парк, полный и птичьих трелей, и человеческих голосов, и звуков, издаваемых клаксонами). Но самым интересным мне показалось третье произведение: исполнитель играл на виолончели, проходя снизу доверху весь ее диапазон — так, чтобы переход от ноты к ноте был плавен и незаметен, словно композитор хотел сказать нам: звуков намного больше и они намного сложнее, чем в привычном темперированном строе. К виолончели добавлялись резонансные частоты из усиленных микрофонами ваз, создающих «слышимые акустические биения, которые замедляются и прекращаются при унисонном звучании» (цитата из программки концерта). Из-за этого возникали диссонансные интервалы и сложные резонансные отзвуки в пространстве.
После третьей пьесы масса людей покинула зал. Действительно, то, что мы услышали в тот вечер, было непохоже на привычную музыку — даже экспериментальную. Как говорила героиня известного сериала, «все-таки мне больше нравится мелодия, которую можно напеть». Сложно винить слушателей в том, что звуковые композиции Люсье оказались им не близки — во вслушивании в них больше напряженной работы, чем расслабленного удовольствия. В тот момент я подумала об абстрактной живописи, которая сейчас и привычна, и любима в том числе далекими от изобразительного искусства людьми. А ведь когда-то она отталкивала не только новизной, но кажущейся простотой и абсолютной беспредметностью. Но сегодня для многих она интереснее, чем пухлые ангелочки эпохи Возрождения. Не это ли ждет и музыку? Возможно, через сто лет такие музыкальные перформансы станут столь же привычными, как и абстрактные картины.
Четвертая композиция оказалась крайне тяжелой для восприятия — высокий звук кларнета накладывался на синусоидальную волну, шедшую из динамика. В программке это сочинение сопровождалось сложным объяснением природы звуковых волн, вибрирующих в зале. С точки зрения рядового слушателя, это напоминало сцену из «Карлсона»: «В каком ухе у меня жужжит? У меня жужжит в обоих ухах». Ощущение, что разрушительный звук вибрирует прямо в черепной коробке, становилось тем болезненнее, чем выше по диапазону забирался звук кларнета.
Последняя композиция Q для скрипки, виолончели, контрабаса, кларнета, тромбона и генераторов звуковой частоты впечатлила не меньше — инструменты то звучали в унисон, то медленно «расползались», играя, и в этом атональном, аритмичном, безразмерном хаосе вырисовывался структурированный гул.
Вышедший на поклон Люсье получил от зрителей (в зале осталось намного больше людей, чем ушло) оглушительные и долгие аплодисменты.
После концерта мне удалось коротко побеседовать с композитором. Он очень тепло отозвался о московской публике:
Зал был переполнен, мест не хватило, люди густо стояли вдоль стен. Многие еще на входе вынуждены были уйти, так как не досталось билетов. А ведь речь шла о достаточно сложной для восприятия музыке, в которой нет ни ритма, ни темпа, ни тональности, ни гармонии: вообще ничего, на что мы привыкли опираться во время прослушивания. В зале присутствовал сам Элвин Люсье — он то опускал, то вскидывал острый птичий профиль, но слушал очень внимательно. Пообщавшись с ним после концерта, я поняла, что он полностью погружен в этот мир. Почувствовала, насколько для него важно то, что он делает. Его необычные сочинения — не притворство, не желание выделиться, не эпатаж. В этом вечном поиске, попытках пощупать, осмыслить звук заключен смысл его жизни.
Художественный руководитель и организатор фестиваля композитор Арман Гущян, считающий произведения Элвина Люсье важнейшим явлением современной музыки, пять лет вел с ним переговоры. Наконец фестиваль состоялся. Предваряя концерт, Гущян сказал, что пять пьес, выбранных для исполнения, наиболее ярко демонстрируют идею Элвина Люсье. Действительно, несмотря на то, что композиции оказались непохожими друг на друга, все они раскрывали одну концепцию: найти музыку там, где никто не привык ее искать, и показать, что звук в академической музыке — не только тот, что издает инструмент.
Исполняя композицию Opera with Objects, музыканты стучали карандашами по банкам, бутылкам, коробкам и другим емкостям — пытаясь обнаружить резонансный отклик этих объектов, чтобы затем усиливать его, меняя интенсивность, тембр и громкость. Из тихого стука постепенно вырастал ритмичный рисунок (сидевший в зале Люсье постукивал пальцами в такт). Следующая композиция Memory Space воспроизводила заранее записанные звуки окружающей среды. Музыканты играли в наушниках, в реальном времени повторяя с помощью инструментов то, что слышат (судя по тому, что звучало, перед нами раскинулся городской парк, полный и птичьих трелей, и человеческих голосов, и звуков, издаваемых клаксонами). Но самым интересным мне показалось третье произведение: исполнитель играл на виолончели, проходя снизу доверху весь ее диапазон — так, чтобы переход от ноты к ноте был плавен и незаметен, словно композитор хотел сказать нам: звуков намного больше и они намного сложнее, чем в привычном темперированном строе. К виолончели добавлялись резонансные частоты из усиленных микрофонами ваз, создающих «слышимые акустические биения, которые замедляются и прекращаются при унисонном звучании» (цитата из программки концерта). Из-за этого возникали диссонансные интервалы и сложные резонансные отзвуки в пространстве.
После третьей пьесы масса людей покинула зал. Действительно, то, что мы услышали в тот вечер, было непохоже на привычную музыку — даже экспериментальную. Как говорила героиня известного сериала, «все-таки мне больше нравится мелодия, которую можно напеть». Сложно винить слушателей в том, что звуковые композиции Люсье оказались им не близки — во вслушивании в них больше напряженной работы, чем расслабленного удовольствия. В тот момент я подумала об абстрактной живописи, которая сейчас и привычна, и любима в том числе далекими от изобразительного искусства людьми. А ведь когда-то она отталкивала не только новизной, но кажущейся простотой и абсолютной беспредметностью. Но сегодня для многих она интереснее, чем пухлые ангелочки эпохи Возрождения. Не это ли ждет и музыку? Возможно, через сто лет такие музыкальные перформансы станут столь же привычными, как и абстрактные картины.
Четвертая композиция оказалась крайне тяжелой для восприятия — высокий звук кларнета накладывался на синусоидальную волну, шедшую из динамика. В программке это сочинение сопровождалось сложным объяснением природы звуковых волн, вибрирующих в зале. С точки зрения рядового слушателя, это напоминало сцену из «Карлсона»: «В каком ухе у меня жужжит? У меня жужжит в обоих ухах». Ощущение, что разрушительный звук вибрирует прямо в черепной коробке, становилось тем болезненнее, чем выше по диапазону забирался звук кларнета.
Последняя композиция Q для скрипки, виолончели, контрабаса, кларнета, тромбона и генераторов звуковой частоты впечатлила не меньше — инструменты то звучали в унисон, то медленно «расползались», играя, и в этом атональном, аритмичном, безразмерном хаосе вырисовывался структурированный гул.
Вышедший на поклон Люсье получил от зрителей (в зале осталось намного больше людей, чем ушло) оглушительные и долгие аплодисменты.
После концерта мне удалось коротко побеседовать с композитором. Он очень тепло отозвался о московской публике:
На вопрос, исследует ли Люсье природу звука, в этом ли цель создания таких странных пьес, казалось бы, очень далеких от традиционной музыки, композитор оживился, возмущенно задвигал густыми бровями и страстно возразил:
Что ж, похоже, пришедшее в голову сравнение с абстрактной живописью вернее всего. Добавлю от себя, концептуальные пьесы Элвина Люсье — воплощение чистой идеи, максимально понятное, основанное на разуме и расчете. Такие произведения тяжелы для восприятия, но они ясно демонстрируют, что музыка не имеет границ и ей есть куда развиваться. Возможно, Люсье прав — мы просто пока не привыкли к таким композициям, они опережают время, показывая новые пути, разрушая шаблоны, заставляя слушателя — как профессионально подготовленного, так и обывателя — расшевелить воображение, удивиться, выйти за привычные рамки.

— Расскажите про вашу новую вещь. Почему «Серп»?
— Иногда мне нравится отталкиваться от визуального образа. Меня вдохновила всем известная сцена сенокоса из романа Толстого «Анна Каренина». В интернете я отсмотрел множество серпов, нашел образец нужной мне формы и перенес его на нотную бумагу. Исполнитель на терменвоксе движениями руки воспроизводит форму серпа, а пять других музыкантов взаимодействуют со звуком, издаваемым терменвоксом. Серп — это мой cantus firmus, как в ренессансной музыке. Из серпа я вырастил пьесу длиной 18 минут.
— Вы считаете себя композитором или саунд-художником?
— Композитором. Саунд-арт — это нечто статичное, близкое к инсталляции и скульптуре. Чтобы создавать саунд-арт, не надо быть музыкантом. А я музыкант. Я слишком серьезно отношусь к музыкальным инструментам, чтобы заниматься саунд-артом.
— Правда ли, что при создании музыки вы никогда не пользуетесь компьютером?
— Почти никогда. Я использовал его только для генерации звуковых частот.
— Вы всегда исследовали, как звучит мир. Но ведь в компьютерную эру он наверняка стал звучать несколько иначе?
— Происходят странные вещи. Люди стали совершенно иначе слушать. Я не знаю, какая именно тут связь с компьютерами, но аудитория стала гораздо внимательнее к медленной музыке, к равнинным звуковым ландшафтам. Мы были более нетерпеливыми.
— В последней трети ХХ века многие авангардисты развернулись к консонансам. Когда слушаешь вашу музыку, созданную, скажем, после 1990 года, возникает ощущение, что эта тенденция не обошла и вас.
— Пожалуй. Но думаю, что я с самого начала отличался открытостью к консонансам. Нет никакого смысла в использовании диссонансов ради них самих. Эта идея исходит из отрицания, она неестественна. Шёнберг пытался писать вне тональности только для того, чтобы избежать ее. Пьер Булез однажды придумал крайне сложный алгоритм для конструирования сочинения. Но случилось несчастье: этот алгоритм выдал ему посреди пьесы трезвучие, и Булезу пришлось отказаться от алгоритма. А надо писать исходя из законов акустики.
— В композиции «I`m Sitting in a Room» вы записали свой голос на пленку, а затем перезаписывали ее снова и снова, так что в итоге акустика комнаты поглотила голос. Почему «вариаций» в этой пьесе ровно 32?
— Мне понадобилось по 16 проигрываний каждой из двух пленок, чтобы услышать в итоге саму пленку, ее тишину. В живом концерте, как сегодня, когда я понимаю, что зал полностью раскрыл свое звучание, я останавливаю процесс. Я не выбирал конкретное число повторений. Если бы выбирал, это уже был бы саунд-арт, а не музыка. Помню, Стравинский написал балет «Орфей» для Баланчина с таким расчетом, что музыка уместилась точно на две стороны грампластинки. Чтобы потом продавать эту пластинку.
— В конце текста, произносимого в «I`m Sitting in a Room», вы говорите, что ваша цель не столько продемонстрировать физический факт, сколько сгладить неровности собственной речи. Заикание действительно было для вас психологической проблемой или это игра?
— Это была шутка, которую я решил навесить на конец речи. Я придумал свою речь в ту самую ночь и в той самой комнате, где записывал пленку. Кстати, неровности есть в речи каждого. Вот вы тоже говорите «а-а-а», «э-э-э».
— Есть ли преемственность между «Лекцией о ничто» Джона Кейджа и «I`m Sitting in a Room»?
— А о чем была та лекция? Я не припомню.
— Что вы думаете о проекте «Video Room 1000»? Не обидно, что этот ролик посмотрели в 16 раз больше, чем «I`m Sitting in a Room»?
— А что это за проект?
— Это приношение вам, сделанное восемь лет назад и набравшее миллионы просмотров. Парень записал видеообращение, повторив ваш текст, а затем загружал его на YouTube и снова скачивал на компьютер тысячу раз, наблюдая, как цифровое копирование размывает оригинал.
— Я гляну. Думаю, там больше просмотров, потому что это видеопроект, а YouTube — видеохостинг.
— Рахманинов недолюбливал свою Прелюдию до-диез минор, потому что до конца дней публика просила сыграть именно ее. У вас есть подобное чувство к «I`m Sitting in a Room»?
— У многих композиторов есть такая вещь — у Джона Кейджа «4`33``», например. Думаю, это неплохо, когда у тебя есть визитная карточка. Публике нравится ее слушать. Я не против.
— Часто пишут, что вы исследуете две сферы: звучание внешнего мира и человеческий слух. В каком-то смысле это ведь противоположные направления. Ваша цель — беспристрастно передать физический звук или настроить его на волны человеческого восприятия — так, чтобы слушатель получал удовольствие?
— Слушателю невозможно понравиться. Даже Кейджу не нравились какие-то мои вещи.
— Когда слушаешь много вашей музыки подряд, складывается ощущение, что звучание мира — довольно напряженное, тревожное. Это мое субъективное восприятие?
— А разве мир должен звучать весело или грустно? Да это ваши ассоциации. Я не слышу в своей музыке никаких эмоций.
— Но есть физиология человека, которая тоже природна. Когда вы даете, например, чистые синусоиды, особенно в высоком регистре, становится больно слушать. Вы не программируете этот болевой эффект?
— Наверное, вы слушаете на большой громкости. Мне никогда не бывает больно от своей музыки.
— Ваш коллега Джеймс Тенни писал, что ваша музыка не столько про физику, сколько про мистику и что через ваши композиции «неартикулированная природа беседует с нами». Для вас тайны существуют? Есть что-то над физикой?
— Нет никакой мистики. Не думаю, что Бог существует. Пока люди списывают проблемы на Бога, они не могут их решать. А я предпочитаю решать.
— Иногда мне нравится отталкиваться от визуального образа. Меня вдохновила всем известная сцена сенокоса из романа Толстого «Анна Каренина». В интернете я отсмотрел множество серпов, нашел образец нужной мне формы и перенес его на нотную бумагу. Исполнитель на терменвоксе движениями руки воспроизводит форму серпа, а пять других музыкантов взаимодействуют со звуком, издаваемым терменвоксом. Серп — это мой cantus firmus, как в ренессансной музыке. Из серпа я вырастил пьесу длиной 18 минут.
— Вы считаете себя композитором или саунд-художником?
— Композитором. Саунд-арт — это нечто статичное, близкое к инсталляции и скульптуре. Чтобы создавать саунд-арт, не надо быть музыкантом. А я музыкант. Я слишком серьезно отношусь к музыкальным инструментам, чтобы заниматься саунд-артом.
— Правда ли, что при создании музыки вы никогда не пользуетесь компьютером?
— Почти никогда. Я использовал его только для генерации звуковых частот.
— Вы всегда исследовали, как звучит мир. Но ведь в компьютерную эру он наверняка стал звучать несколько иначе?
— Происходят странные вещи. Люди стали совершенно иначе слушать. Я не знаю, какая именно тут связь с компьютерами, но аудитория стала гораздо внимательнее к медленной музыке, к равнинным звуковым ландшафтам. Мы были более нетерпеливыми.
— В последней трети ХХ века многие авангардисты развернулись к консонансам. Когда слушаешь вашу музыку, созданную, скажем, после 1990 года, возникает ощущение, что эта тенденция не обошла и вас.
— Пожалуй. Но думаю, что я с самого начала отличался открытостью к консонансам. Нет никакого смысла в использовании диссонансов ради них самих. Эта идея исходит из отрицания, она неестественна. Шёнберг пытался писать вне тональности только для того, чтобы избежать ее. Пьер Булез однажды придумал крайне сложный алгоритм для конструирования сочинения. Но случилось несчастье: этот алгоритм выдал ему посреди пьесы трезвучие, и Булезу пришлось отказаться от алгоритма. А надо писать исходя из законов акустики.
— В композиции «I`m Sitting in a Room» вы записали свой голос на пленку, а затем перезаписывали ее снова и снова, так что в итоге акустика комнаты поглотила голос. Почему «вариаций» в этой пьесе ровно 32?
— Мне понадобилось по 16 проигрываний каждой из двух пленок, чтобы услышать в итоге саму пленку, ее тишину. В живом концерте, как сегодня, когда я понимаю, что зал полностью раскрыл свое звучание, я останавливаю процесс. Я не выбирал конкретное число повторений. Если бы выбирал, это уже был бы саунд-арт, а не музыка. Помню, Стравинский написал балет «Орфей» для Баланчина с таким расчетом, что музыка уместилась точно на две стороны грампластинки. Чтобы потом продавать эту пластинку.
— В конце текста, произносимого в «I`m Sitting in a Room», вы говорите, что ваша цель не столько продемонстрировать физический факт, сколько сгладить неровности собственной речи. Заикание действительно было для вас психологической проблемой или это игра?
— Это была шутка, которую я решил навесить на конец речи. Я придумал свою речь в ту самую ночь и в той самой комнате, где записывал пленку. Кстати, неровности есть в речи каждого. Вот вы тоже говорите «а-а-а», «э-э-э».
— Есть ли преемственность между «Лекцией о ничто» Джона Кейджа и «I`m Sitting in a Room»?
— А о чем была та лекция? Я не припомню.
— Что вы думаете о проекте «Video Room 1000»? Не обидно, что этот ролик посмотрели в 16 раз больше, чем «I`m Sitting in a Room»?
— А что это за проект?
— Это приношение вам, сделанное восемь лет назад и набравшее миллионы просмотров. Парень записал видеообращение, повторив ваш текст, а затем загружал его на YouTube и снова скачивал на компьютер тысячу раз, наблюдая, как цифровое копирование размывает оригинал.
— Я гляну. Думаю, там больше просмотров, потому что это видеопроект, а YouTube — видеохостинг.
— Рахманинов недолюбливал свою Прелюдию до-диез минор, потому что до конца дней публика просила сыграть именно ее. У вас есть подобное чувство к «I`m Sitting in a Room»?
— У многих композиторов есть такая вещь — у Джона Кейджа «4`33``», например. Думаю, это неплохо, когда у тебя есть визитная карточка. Публике нравится ее слушать. Я не против.
— Часто пишут, что вы исследуете две сферы: звучание внешнего мира и человеческий слух. В каком-то смысле это ведь противоположные направления. Ваша цель — беспристрастно передать физический звук или настроить его на волны человеческого восприятия — так, чтобы слушатель получал удовольствие?
— Слушателю невозможно понравиться. Даже Кейджу не нравились какие-то мои вещи.
— Когда слушаешь много вашей музыки подряд, складывается ощущение, что звучание мира — довольно напряженное, тревожное. Это мое субъективное восприятие?
— А разве мир должен звучать весело или грустно? Да это ваши ассоциации. Я не слышу в своей музыке никаких эмоций.
— Но есть физиология человека, которая тоже природна. Когда вы даете, например, чистые синусоиды, особенно в высоком регистре, становится больно слушать. Вы не программируете этот болевой эффект?
— Наверное, вы слушаете на большой громкости. Мне никогда не бывает больно от своей музыки.
— Ваш коллега Джеймс Тенни писал, что ваша музыка не столько про физику, сколько про мистику и что через ваши композиции «неартикулированная природа беседует с нами». Для вас тайны существуют? Есть что-то над физикой?
— Нет никакой мистики. Не думаю, что Бог существует. Пока люди списывают проблемы на Бога, они не могут их решать. А я предпочитаю решать.
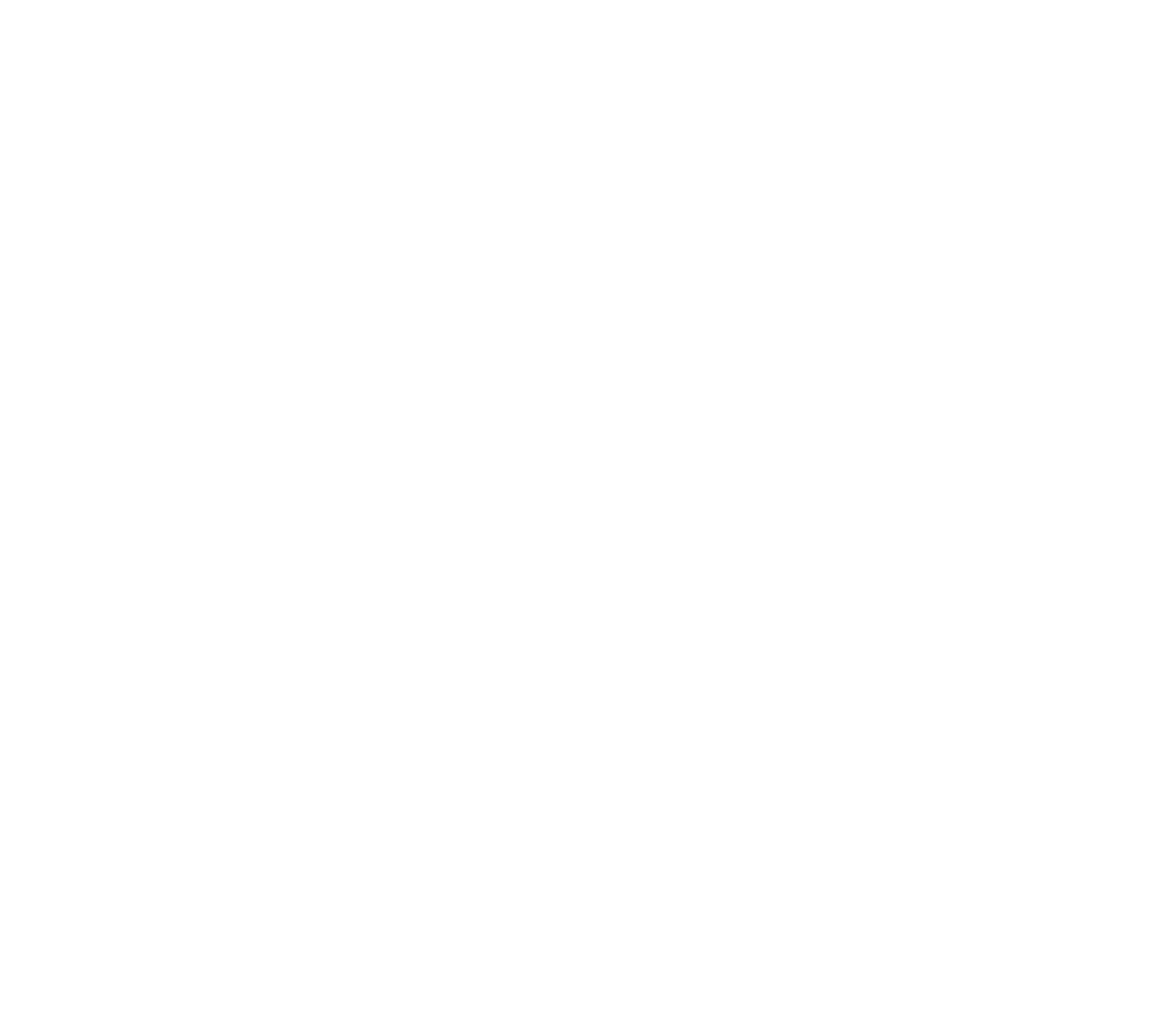
– В последний раз вы приезжали в нашу страну в 1997 году. Прошло 20 лет. На фестиваль, посвященный вам, все билеты давно проданы, а желающих послушать ваши лекции больше сотни. А что для вас означает это событие?
– Помню, четыре года назад мне позвонил Арман (Арман Гущян, композитор и художественный руководитель фестиваля. – «НГ») и предложил организовать фестиваль в честь меня. Я был очень удивлен и заинтригован одновременно. Потом начался долгий процесс переговоров. В какой-то момент казалось, что ничего не получится, но, к счастью, мы нашли средства для проведения фестиваля. Арман работал с большим энтузиазмом, очень насыщенно, и я знал, что все состоится. Для меня многое значит то, что за последние 20 лет меня пригласили дважды. Это говорит о том, что для вашей страны современное искусство находится не на последнем месте.
– В своей книге «Музыка 109: заметки об экспериментальной музыке» вы подробно пишете о Джоне Кейдже, который стал для вас не только неким учителем, но и другом. Там же вы упоминаете о своей деятельности в миланской StudiodiFonologia. А повлияли ли на вас как-то эксперименты со звуком ее основателей – Лучано Берио и Бруно Мадерны?
– О, это было чудесное время. Я всегда вспоминаю его. В 1960 году я получил стипендию Фулбрайта и уехал в Италию, где мне дали возможность поработать в миланской студии. Там уже экспериментировали со звуком Анри Пуссер и Кейдж, создавший удивительную «Арию», в которой вместо нотации, ритма, длительностей были волнистые линии восьми цветов (каждая означала определенный стиль исполнения) и шумы – их исполнитель должен выбирать сам. «Арию» совершенно фантастически воплотила Кэти Берберян, супруга Берио. Их с Мадерной большое дело – создание еще одной электронной студии, которая встала в один ряд с лабораторией Шеффера и студией в Кельне, – всегда вдохновляло меня. Берио вообще один из моих любимых композиторов наряду со Штокхаузеном. Он был очень отзывчивым, добрым человеком, настоящим изобретателем.
– Однажды Кейдж сказал вам: «Не используй свое воображение». Что он имел в виду?
– Если бы кто-нибудь мог знать точно, о чем он говорил! (Смеется.) Ему часто не нравились какие-то мои вещи, в них он видел некую причинно-следственную связь. Думаю, эта фраза означала что-то типа «жестко следуй своей структуре, одной идее». Это как у животных: они всегда ясно выражают свое намерение, ничего не придумывают. Как себя ведут, например, летучие мыши? Я уже давно изучаю их язык – они посылают прямой звук и по возвращающемуся от объектов эхо ориентируются в кромешной тьме. Никакого воображения.
– Преподавание – важнейшая сторона вашей жизни. Вам нравится заниматься со студентами?
– Да! Я очень люблю преподавать и всегда это делаю с большим удовольствием и терпением. Здесь я себя чувствую по-настоящему реализованным, успешным человеком. Мне вообще нравится говорить, объяснять что-либо – в такие моменты я представляю себя на ораторской трибуне. Мой отец – адвокат, и, возможно, от него мне передалось это умение.
– Что сейчас, на ваш взгляд, можно назвать современной музыкой? Куда будет двигаться развитие композиторского творчества? Ведь многие идеи уже кажутся исчерпанными…
– Понятие «современная музыка» даже сейчас очень условно. В каждую эпоху – своя современная музыка. Как она будет эволюционировать, никто не знает. Молодые композиторы находятся в постоянном поиске, у них невероятные идеи, и дальнейшее развитие во многом зависит от того, в какую сторону они повернут. Я уверен, что в наше время музыка просто необходима для выживания. Нам нужны новые способы общения, взаимодействия друг с другом. Поэтому я против границ в музыке – не цитирую народные песни, не делаю отсылок к другим культурам.
– Вас называют пионером минимализма, концептуализма, электронной и электроакустической музыки…
– Пионер? Какое интересное слово! Что оно означает?
– Сегодня это основоположник чего-либо. Очень часто так пишут в программках к концерту. Как вы можете охарактеризовать себя как композитора?
– Я стараюсь сочинять как можно меньше. Предпочитаю размышлять над пьесой и сфокусироваться на феномене звука, а уже потом заниматься структурой и формой. Новых технологий я не изобрел – даже почти не применял компьютер. Всю жизнь использую обычную акустическую аппаратуру для того, чтобы получить новые акустические эффекты. Как меня называть? Давайте так: пионер саунд-арта. И запишите это в программке.
– Помню, четыре года назад мне позвонил Арман (Арман Гущян, композитор и художественный руководитель фестиваля. – «НГ») и предложил организовать фестиваль в честь меня. Я был очень удивлен и заинтригован одновременно. Потом начался долгий процесс переговоров. В какой-то момент казалось, что ничего не получится, но, к счастью, мы нашли средства для проведения фестиваля. Арман работал с большим энтузиазмом, очень насыщенно, и я знал, что все состоится. Для меня многое значит то, что за последние 20 лет меня пригласили дважды. Это говорит о том, что для вашей страны современное искусство находится не на последнем месте.
– В своей книге «Музыка 109: заметки об экспериментальной музыке» вы подробно пишете о Джоне Кейдже, который стал для вас не только неким учителем, но и другом. Там же вы упоминаете о своей деятельности в миланской StudiodiFonologia. А повлияли ли на вас как-то эксперименты со звуком ее основателей – Лучано Берио и Бруно Мадерны?
– О, это было чудесное время. Я всегда вспоминаю его. В 1960 году я получил стипендию Фулбрайта и уехал в Италию, где мне дали возможность поработать в миланской студии. Там уже экспериментировали со звуком Анри Пуссер и Кейдж, создавший удивительную «Арию», в которой вместо нотации, ритма, длительностей были волнистые линии восьми цветов (каждая означала определенный стиль исполнения) и шумы – их исполнитель должен выбирать сам. «Арию» совершенно фантастически воплотила Кэти Берберян, супруга Берио. Их с Мадерной большое дело – создание еще одной электронной студии, которая встала в один ряд с лабораторией Шеффера и студией в Кельне, – всегда вдохновляло меня. Берио вообще один из моих любимых композиторов наряду со Штокхаузеном. Он был очень отзывчивым, добрым человеком, настоящим изобретателем.
– Однажды Кейдж сказал вам: «Не используй свое воображение». Что он имел в виду?
– Если бы кто-нибудь мог знать точно, о чем он говорил! (Смеется.) Ему часто не нравились какие-то мои вещи, в них он видел некую причинно-следственную связь. Думаю, эта фраза означала что-то типа «жестко следуй своей структуре, одной идее». Это как у животных: они всегда ясно выражают свое намерение, ничего не придумывают. Как себя ведут, например, летучие мыши? Я уже давно изучаю их язык – они посылают прямой звук и по возвращающемуся от объектов эхо ориентируются в кромешной тьме. Никакого воображения.
– Преподавание – важнейшая сторона вашей жизни. Вам нравится заниматься со студентами?
– Да! Я очень люблю преподавать и всегда это делаю с большим удовольствием и терпением. Здесь я себя чувствую по-настоящему реализованным, успешным человеком. Мне вообще нравится говорить, объяснять что-либо – в такие моменты я представляю себя на ораторской трибуне. Мой отец – адвокат, и, возможно, от него мне передалось это умение.
– Что сейчас, на ваш взгляд, можно назвать современной музыкой? Куда будет двигаться развитие композиторского творчества? Ведь многие идеи уже кажутся исчерпанными…
– Понятие «современная музыка» даже сейчас очень условно. В каждую эпоху – своя современная музыка. Как она будет эволюционировать, никто не знает. Молодые композиторы находятся в постоянном поиске, у них невероятные идеи, и дальнейшее развитие во многом зависит от того, в какую сторону они повернут. Я уверен, что в наше время музыка просто необходима для выживания. Нам нужны новые способы общения, взаимодействия друг с другом. Поэтому я против границ в музыке – не цитирую народные песни, не делаю отсылок к другим культурам.
– Вас называют пионером минимализма, концептуализма, электронной и электроакустической музыки…
– Пионер? Какое интересное слово! Что оно означает?
– Сегодня это основоположник чего-либо. Очень часто так пишут в программках к концерту. Как вы можете охарактеризовать себя как композитора?
– Я стараюсь сочинять как можно меньше. Предпочитаю размышлять над пьесой и сфокусироваться на феномене звука, а уже потом заниматься структурой и формой. Новых технологий я не изобрел – даже почти не применял компьютер. Всю жизнь использую обычную акустическую аппаратуру для того, чтобы получить новые акустические эффекты. Как меня называть? Давайте так: пионер саунд-арта. И запишите это в программке.
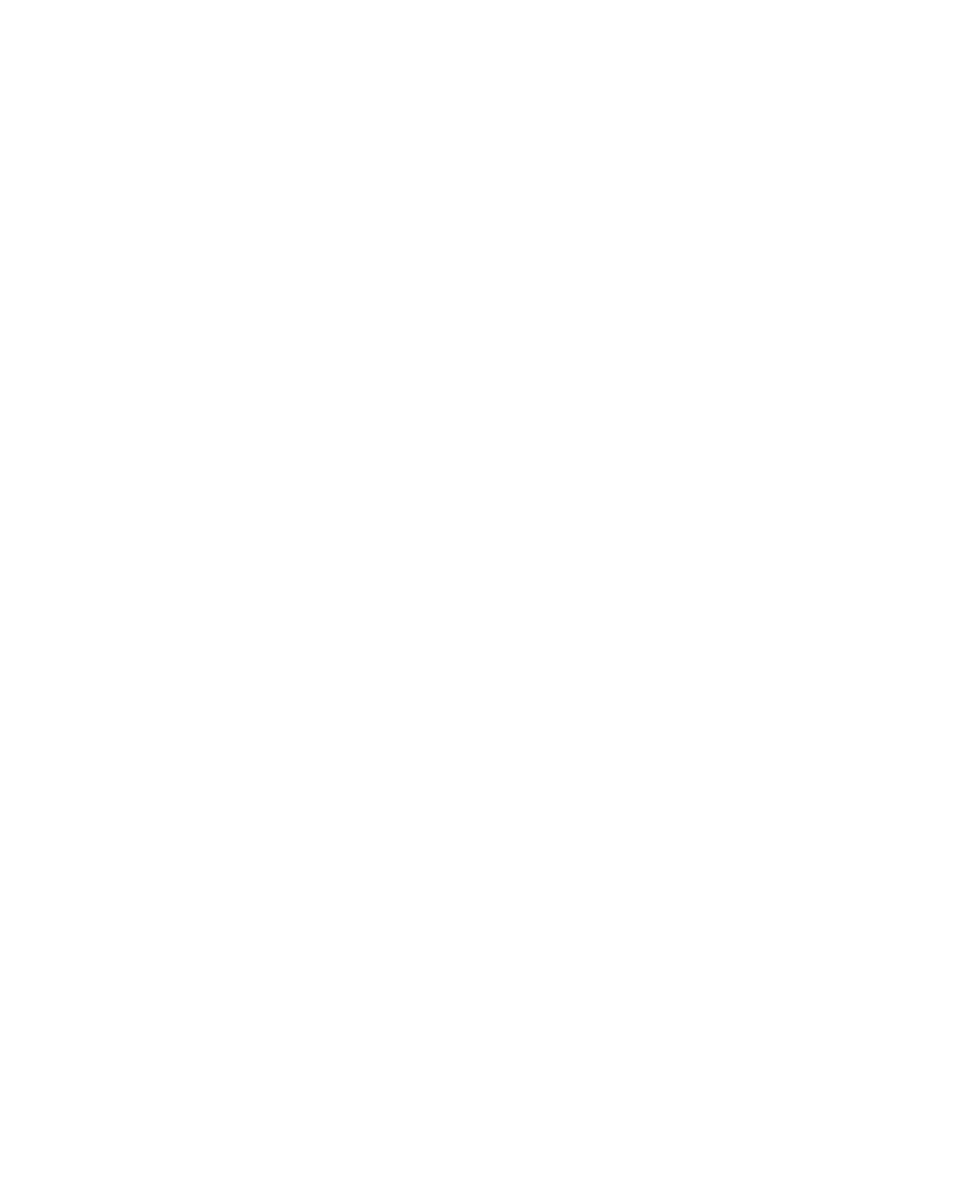
Элвин Люсье, американский композитор, пионер экспериментальной музыки и саунд-арта
Справка «РР». Первопроходец во многих областях музыкальной композиции, перформанса, звуковой инсталляции. Исследовал акустику пространств, физическую природу звука, траекторию его движения, психологию и физиологию его восприятия
Про Россию и Америку
Знаете, много лет назад много лет назад Тихон Хренников приехал в Соединенные Штаты с несколькими советскими композиторами. Кажется, в то время он уже занимал высокую должность в своей сфере. (Тихон Хренников — генеральный секретарь Союза композиторов СССР в 1948—1957 годах и первый секретарь в 1957—1991 годах. — «РР»). Для многих композиторов это были тяжелые времена, Прокофьеву было нелегко. В Америке же все было по-другому. Но теперь я приезжаю сюда, и все иначе. Вот Арман (Арман Гущян, организатор фестиваля Люсье в Москве. — «РР») собрал вместе людей, ходил по инстанциям, чтобы сыграть мою музыку, а американское посольство потеряло деньги из-за Трампа! Денег, чтобы меня привезти сюда, не оказалось, поэтому я предложил приехать в Москву за свой счет.
Про революцию в музыке и в жизни
Не думаю, что революционные повороты в искусстве и политике действительно синхронизированы. Моя революция состоялась в 1960-х. Мортон Фелдман, Джон Кейдж — появилась совсем другая музыка. Нам очень повезло, потому что у нас не было синтезаторов. Ничего определенного. Нам приходилось самим находить звучание. Сегодня же есть Max/MSP, суперколлайдер, компьютеры… А мы делали динамики из мыльниц! Однажды я читал книжку о летучих мышах, дельфинах и эхолокации. А потом пошел в бар и разговорился за пивом с одним парнем, сказал, что хотел бы сымитировать летучих мышей, эхо. Он мне и говорит: я работаю на компанию, которая делает эхолокаторы. И я купил у них несколько штук и сделал эту пьесу («Vespers». — «РР»). Эхолокатор — совершенно другой инструмент. Не кларнет, не фагот — он использует апериодичные квадратные волны.
Моя пьеса для альфа-ритмов («Музыка для исполнителя соло». — «РР») появилась так: один ученый предложил мне усилитель для мозговых волн. А вот к синтезатору РСА (RCA) в академии Милтона Бэббита нам не дали приблизиться. Но у него и звук очень скучный. Поэтому я лучше использую чайник или то, что найду под ногами, чем сделаю пьесу в студии с генерацией звука на компьютере! Кстати, у меня чайник исполняет «Битлз» и делает звук нереальным. Мне нравится, что это вовлекает слушателей, создает контекст. Многие мои друзья писали сложную электронику, но мне кажется, что это больше про науку, чем... (Люсье замолкает — не может подобрать слово. — «РР»). В любом случае мне очень повезло найти все эти вещи в музыке.
«Однажды я читал книжку о летучих мышах, дельфинах и эхолокации. А потом пошел в бар и разговорился за пивом с одним парнем, сказал, что хотел бы сымитировать летучих мышей, эхо. А он мне и говорит: я работаю на компанию, которая делает эхолокаторы»
Про собственную музыку
У меня другая музыка. Без мелодий. Без контраста. Помню, Ла Монте Янг сказал мне однажды: паузы для контраста сочинять не очень трудно. Пьеса для терменвокса, которую я написал для фестиваля, — на одной громкости, в ней ничего не происходит, все одинаковое… Я думаю, что нужно просто вслушиваться. Сложно это объяснить. Вы понимаете, о чем я?
Про успех и коммерциализацию музыки
Когда я говорю: «Я должен это сделать», — моя жена всегда отвечает: «Элвин, забудь про все эти "должен". Мы не всегда что-то должны». Некоторые люди занимаются коммерческой музыкой. Стив Райх хотел выйти на более широкую аудиторию, поэтому он замедлил свою музыку и говорил, что его музыка — это танец для пальцев ног, а Кейдж — это танцевальная музыка, но никто не хочет ее танцевать. Под мою музыку люди хотят танцевать, и я им отвечаю: «Что ж, если хочется, то можно». В каком-то смысле я бы хотел этого, но не уверен, насколько это совместимо с моими идеями… Знаете, я до сих пор шокирован тем, что чем старше я становился, тем больше меня начинали принимать и приглашать в мои 60, 70, 80 лет (Люсье родился в 1931 году. — «РР»). Однажды я исполнял «Я сижу в комнате» в Массачусетском технологическом институте, и когда я спускался со сцены, мальчишка 11 лет сказал: «Это так клево!». А потом он сделал свою версию. Представьте, детский голос говорит: «Я сижу в комнате…» Это же прекрасно! Думаю, чудесно, что дети уже в таком возрасте любят мою музыку. Как правило, в 11 лет дети не любят того, что делают старики.
Про музыку слов и прямолинейность
Одна исполнительница из Германии изменила текст «Я сижу в комнате» (партитура этого произведения состоит из текста. — «РР»). Это нормально. Я сказал ей тогда: «Ты можешь использовать любой текст. Но это же текстовая партитура, она проясняет то, в чем ты можешь быть не уверена. Ты можешь переводить на другой язык. Я так уже делал, Кейдж тоже. Но придерживайся моей идеи, используй этот текст. Это хороший текст. Я написал его в реальном времени в ту ночь. Я не хотел использовать высокую форму: стихи, поэзию». И еще вот что я хочу сказать. Однажды я написал рецензию на книгу «Песнь Кита» (Whale Song) — и заметил: мы можем учиться у дельфинов, китов, летучих мышей. Звуки, которые они производят, не лгут. Когда они отправляют сигнал и получают ответ, то могут решить сделать что-нибудь прекрасное. Это захватывающе. Поэтому и в моей музыке, когда я инициирую процесс, я не вклиниваюсь посередине и не говорю: «Лучше сделаю что-нибудь другое». Похоже, мне важно про это было сказать из-за политической ситуации в Америке. Повсюду ложь! Лгут все. Это ужасно! Полагаю, сегодня мы должны не думать о языке, но быть очень прямолинейными.
Про важные музыкальные произведения
Каждый учебный год я начинаю с того, что прихожу в аудиторию и включаю пьесу Джона Кейджа Aria (Fontana Mix). Вообще каждый раз, включая одну и ту же запись Бетховена, я всегда слышу изменения. По моей теории, он сделал эти звуки неопределенными. То есть даже несмотря на то, что в записи звук зафиксирован, каждый год я слышу его совсем по-другому. И мне нравится, как это происходит на моих уроках. 18-летние ребята думают, что знают всю музыку в мире: Брюс Спрингстин, «Металлика»… А тут я включаю им Кейджа — и они, конечно, в шоке.
Еще Стравинский. Очень люблю его более поздние балеты, последние. Люблю балет «Орфей», это моя любимая вещь у него. Я написал о ней пьесу «Вариации на Орфея» (Orpheus Variations). И — «Орфей» Монтеверди. Я изучал его на первом курсе и все еще помню. Чудесная музыка!
Справка «РР». Первопроходец во многих областях музыкальной композиции, перформанса, звуковой инсталляции. Исследовал акустику пространств, физическую природу звука, траекторию его движения, психологию и физиологию его восприятия
Про Россию и Америку
Знаете, много лет назад много лет назад Тихон Хренников приехал в Соединенные Штаты с несколькими советскими композиторами. Кажется, в то время он уже занимал высокую должность в своей сфере. (Тихон Хренников — генеральный секретарь Союза композиторов СССР в 1948—1957 годах и первый секретарь в 1957—1991 годах. — «РР»). Для многих композиторов это были тяжелые времена, Прокофьеву было нелегко. В Америке же все было по-другому. Но теперь я приезжаю сюда, и все иначе. Вот Арман (Арман Гущян, организатор фестиваля Люсье в Москве. — «РР») собрал вместе людей, ходил по инстанциям, чтобы сыграть мою музыку, а американское посольство потеряло деньги из-за Трампа! Денег, чтобы меня привезти сюда, не оказалось, поэтому я предложил приехать в Москву за свой счет.
Про революцию в музыке и в жизни
Не думаю, что революционные повороты в искусстве и политике действительно синхронизированы. Моя революция состоялась в 1960-х. Мортон Фелдман, Джон Кейдж — появилась совсем другая музыка. Нам очень повезло, потому что у нас не было синтезаторов. Ничего определенного. Нам приходилось самим находить звучание. Сегодня же есть Max/MSP, суперколлайдер, компьютеры… А мы делали динамики из мыльниц! Однажды я читал книжку о летучих мышах, дельфинах и эхолокации. А потом пошел в бар и разговорился за пивом с одним парнем, сказал, что хотел бы сымитировать летучих мышей, эхо. Он мне и говорит: я работаю на компанию, которая делает эхолокаторы. И я купил у них несколько штук и сделал эту пьесу («Vespers». — «РР»). Эхолокатор — совершенно другой инструмент. Не кларнет, не фагот — он использует апериодичные квадратные волны.
Моя пьеса для альфа-ритмов («Музыка для исполнителя соло». — «РР») появилась так: один ученый предложил мне усилитель для мозговых волн. А вот к синтезатору РСА (RCA) в академии Милтона Бэббита нам не дали приблизиться. Но у него и звук очень скучный. Поэтому я лучше использую чайник или то, что найду под ногами, чем сделаю пьесу в студии с генерацией звука на компьютере! Кстати, у меня чайник исполняет «Битлз» и делает звук нереальным. Мне нравится, что это вовлекает слушателей, создает контекст. Многие мои друзья писали сложную электронику, но мне кажется, что это больше про науку, чем... (Люсье замолкает — не может подобрать слово. — «РР»). В любом случае мне очень повезло найти все эти вещи в музыке.
«Однажды я читал книжку о летучих мышах, дельфинах и эхолокации. А потом пошел в бар и разговорился за пивом с одним парнем, сказал, что хотел бы сымитировать летучих мышей, эхо. А он мне и говорит: я работаю на компанию, которая делает эхолокаторы»
Про собственную музыку
У меня другая музыка. Без мелодий. Без контраста. Помню, Ла Монте Янг сказал мне однажды: паузы для контраста сочинять не очень трудно. Пьеса для терменвокса, которую я написал для фестиваля, — на одной громкости, в ней ничего не происходит, все одинаковое… Я думаю, что нужно просто вслушиваться. Сложно это объяснить. Вы понимаете, о чем я?
Про успех и коммерциализацию музыки
Когда я говорю: «Я должен это сделать», — моя жена всегда отвечает: «Элвин, забудь про все эти "должен". Мы не всегда что-то должны». Некоторые люди занимаются коммерческой музыкой. Стив Райх хотел выйти на более широкую аудиторию, поэтому он замедлил свою музыку и говорил, что его музыка — это танец для пальцев ног, а Кейдж — это танцевальная музыка, но никто не хочет ее танцевать. Под мою музыку люди хотят танцевать, и я им отвечаю: «Что ж, если хочется, то можно». В каком-то смысле я бы хотел этого, но не уверен, насколько это совместимо с моими идеями… Знаете, я до сих пор шокирован тем, что чем старше я становился, тем больше меня начинали принимать и приглашать в мои 60, 70, 80 лет (Люсье родился в 1931 году. — «РР»). Однажды я исполнял «Я сижу в комнате» в Массачусетском технологическом институте, и когда я спускался со сцены, мальчишка 11 лет сказал: «Это так клево!». А потом он сделал свою версию. Представьте, детский голос говорит: «Я сижу в комнате…» Это же прекрасно! Думаю, чудесно, что дети уже в таком возрасте любят мою музыку. Как правило, в 11 лет дети не любят того, что делают старики.
Про музыку слов и прямолинейность
Одна исполнительница из Германии изменила текст «Я сижу в комнате» (партитура этого произведения состоит из текста. — «РР»). Это нормально. Я сказал ей тогда: «Ты можешь использовать любой текст. Но это же текстовая партитура, она проясняет то, в чем ты можешь быть не уверена. Ты можешь переводить на другой язык. Я так уже делал, Кейдж тоже. Но придерживайся моей идеи, используй этот текст. Это хороший текст. Я написал его в реальном времени в ту ночь. Я не хотел использовать высокую форму: стихи, поэзию». И еще вот что я хочу сказать. Однажды я написал рецензию на книгу «Песнь Кита» (Whale Song) — и заметил: мы можем учиться у дельфинов, китов, летучих мышей. Звуки, которые они производят, не лгут. Когда они отправляют сигнал и получают ответ, то могут решить сделать что-нибудь прекрасное. Это захватывающе. Поэтому и в моей музыке, когда я инициирую процесс, я не вклиниваюсь посередине и не говорю: «Лучше сделаю что-нибудь другое». Похоже, мне важно про это было сказать из-за политической ситуации в Америке. Повсюду ложь! Лгут все. Это ужасно! Полагаю, сегодня мы должны не думать о языке, но быть очень прямолинейными.
Про важные музыкальные произведения
Каждый учебный год я начинаю с того, что прихожу в аудиторию и включаю пьесу Джона Кейджа Aria (Fontana Mix). Вообще каждый раз, включая одну и ту же запись Бетховена, я всегда слышу изменения. По моей теории, он сделал эти звуки неопределенными. То есть даже несмотря на то, что в записи звук зафиксирован, каждый год я слышу его совсем по-другому. И мне нравится, как это происходит на моих уроках. 18-летние ребята думают, что знают всю музыку в мире: Брюс Спрингстин, «Металлика»… А тут я включаю им Кейджа — и они, конечно, в шоке.
Еще Стравинский. Очень люблю его более поздние балеты, последние. Люблю балет «Орфей», это моя любимая вещь у него. Я написал о ней пьесу «Вариации на Орфея» (Orpheus Variations). И — «Орфей» Монтеверди. Я изучал его на первом курсе и все еще помню. Чудесная музыка!
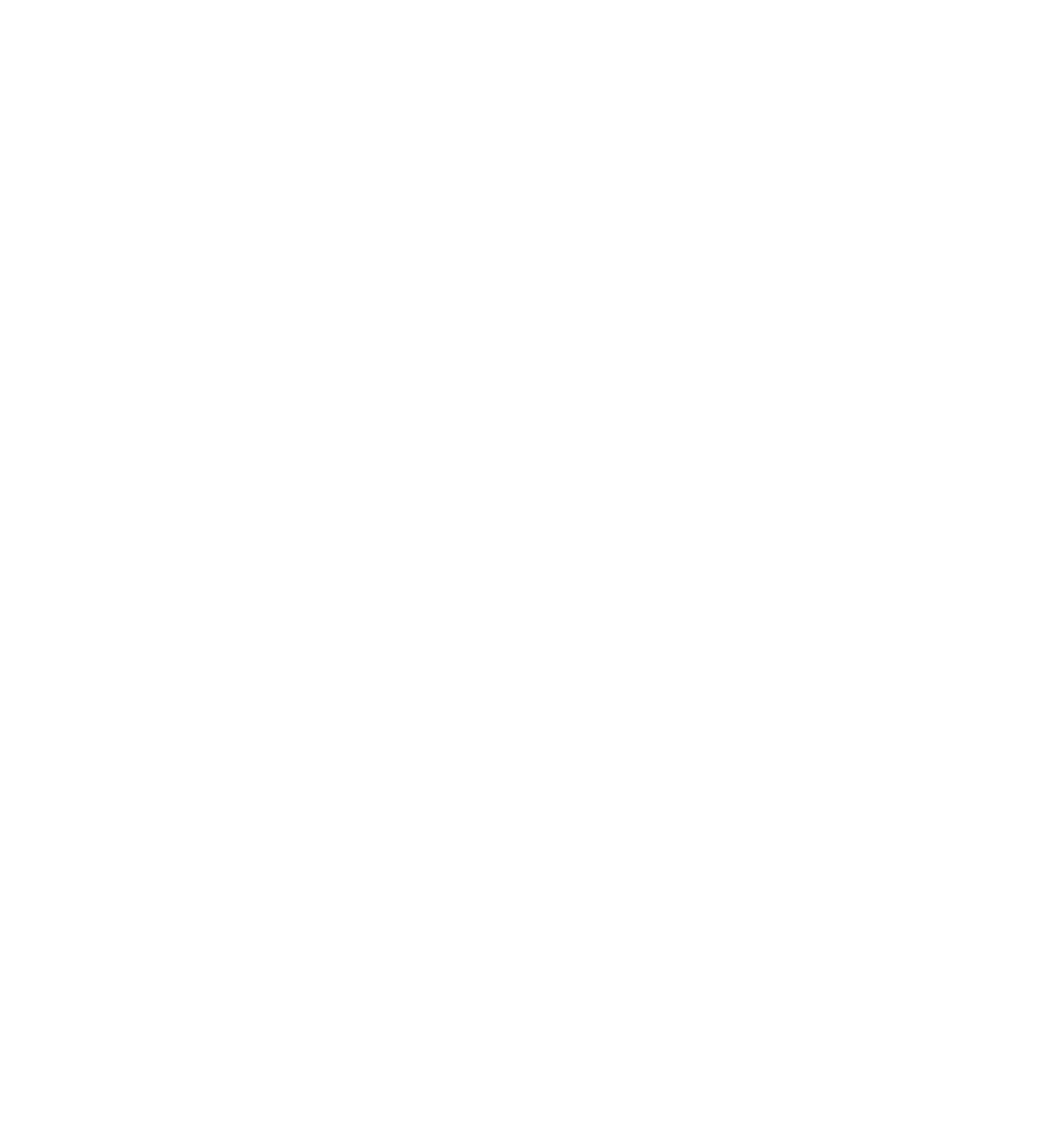
Журнал "Сигма"
Со 2 по 7 октября в Москве прошел крупный фестиваль Everything is Real, посвященный музыке Элвина Люсье и организованный культурной платформой Траектория Музыки при поддержке Фонда Эрнста фон Сименса. В программе фестиваля была музыка самого Люсье и его товарищей, перформансы, лекции, премьера сочинения Sickle, написанного композитором специально для московского фестиваля. Элвина Люсье на фестивале чествовали лично, он был гостем, участником и исполнителем ключевых перформансов.
Люсье — живой классик американского авангарда 60-70-х годов ХХ века, друг и соратник Джона Кейджа, Мортона Фелдмана, Эрла Брауна и других композиторов Нью-Йоркской школы, первопроходец саунд-арта и музыкант-оригинал. Его перформансы, звуковые инсталляции и музыкальные композиции отличались новаторством, очерченностью, четкостью задумки. Будущий авангардист начинал свой путь в 50-х годах как композитор с классической выучкой; он интересовался современным ему европейским авангардом, теми тенденциями, которые привносил в музыку Дармштадт. Однако Люсье чувствовал, что эта музыка со сложной нотацией, которая вызывает восхищение непроницаемой и загадочной орнаментикой знаков, — не его музыка. Знакомство с творчеством Джона Кейджа и Дэвида Тюдора на концерте в Венеции, а затем и дружба с кружком музыкантов, сложившимся вокруг Кейджа, позволила Люсье найти свой путь. Концерт в венецианском театре «Феникс», где Кейдж и Тюдор исполняли перформанс вместе с танцовщиками группы Мерса Каннингема, произвел такое глубокое впечатление на Люсье, что после этого он год не мог писать музыку.
Люсье одним из первых сделал процесс возникновения музыки, звука прослеживаемым для слушателя в своем перформансе I am siting in the room, в котором многократно перезаписываемый и транслируемый в помещение голос исполнителя преобразуется в дрон, выявляющий акустические свойства самого помещения. В работе Music for Solo Performer 1968 года, который считается первой значительной оригинальной композицией Люсье, в качестве материала для создания звука используются усиленные альфа-ритмы головного мозга, они передаются с помощью мембран динамиков на различные перкуссионные инструменты. Элвин Люсье вдохновлялся звуками природы, феноменами эхолокации, электромагнитными явлениями, в том числе фиксировал для своих записей процессы в ионосфере. В последние годы композитор пишет много музыки для традиционных инструментов, иногда используя осцилляторы, генераторы волн, в ней композитор большое внимание уделяет феномену биений, которые возникают при взаимодействие звуковых высот.
Музыка Люсье зачастую аскетична, она очень проста в том, что касается внутренней структуры и базовых принципов организации, даже может показаться бедной в отношении средств и выражения: в ней минимум перемен, музыкальных жестов, разворачивающихся структур, наподобие гармоний, мелодий и т.д. Американский композитор мало обеспокоен тем, что слушателю может быть скучно: слушатель может развлечь сам себя, может быть заворожен самим звуком в его чистых и минимальных проявления, т.е. феноменальной, конкретной стороной музыки. Сам Люсье рассказывает, что однажды в 70-х годах Карлхайнц Штокхаузен, после того, как посмотрел его партитуры, сказал: «Ваша музыка — всего лишь мгновение моей». В отношении концепций своих работ Люсье тоже прост до элегантности и не тяготеет к интеллектуализации или сложным философемам. Этим отчасти объясняется их эффектность: композитор не пытается объяснить тот или иной перформанс с помощью отсылок к дзен-буддизму или работам Маршалла Маклюэна, ему достаточно интереса к самим явлениям, например, к способности эхолокации у летучих мышей.
Люсье в целом тяготеет к конкретности и эмпирике в своей речи и выступлениях. В силу того, что он преподаватель с почти полувековым стажем, учивший студентов сначала в Брандейсе, а затем в Уэслианском университете, ему приходится выступать с лекциями, затрагивающими общие теоретические вопросы, и рассказывать о судьбах и путях новой музыки. Однако даже в таких случаях он предпочитает быть кратким и конкретным, насколько это возможно, предпочитает опираться на примеры из жизненной практики того или иного композитора или собственной, а не на общие рассуждения и поэтические метафоры. Как вспоминает сам Люсье, в Дармштадте Джон Кейдж, в отличие от других композиторов, предпочитал на своих занятиях не разворачивать сложные теоретические построения, не обосновывать новые способы связи нот и звуков, но рассказывать дзенские притчи, что, по мнению самого Кейджа, профессиональной аудитории было полезнее, чем узнать еще десяток возможных способов присоединять одну ноту к другой.
Интерес к физическим явления, вещам, фактам отнюдь не следствие какой-то сухости или отсутствия фантазии; однажды композитор сказал, что раньше верил, что миром правят практичные люди, тогда как поэты лишь грезят, но теперь он не видит особой разницы между наукой и искусством. Работы Люсье — это интерес к поэзии той сферы, что обычно считается лишенной поэтичности.
Мне удалось поговорить с Элвином Люсье незадолго до его лекции о Нью-Йоркскойшколе композиторов и концерта в Мультимедиа Арт Музее. За эту интересную возможность я хочу особенно поблагодарить организаторов фестиваля, в частности, Егора Хлыстова и художественного руководителя Армана Гущяна.
Несмотря на свой преклонный возраст, композитор бодр, улыбчив, открыт и общителен. Говорит он тихо, но увлеченно и сосредоточенно. Думаю, звуковая обстановка нашей беседы показалась бы любопытной Джон Кейджу — холл гостиницы Гранд Марриотт на Тверской вмещал в себя множество неконтролируемых, живущих собственной жизнью звуков и событий: шорохи шагов и шелест машин на улице, возгласы и шепоты, звонки, неподалеку, в ресторане гостиницы, что-то наигрывал пианист.
Люсье — живой классик американского авангарда 60-70-х годов ХХ века, друг и соратник Джона Кейджа, Мортона Фелдмана, Эрла Брауна и других композиторов Нью-Йоркской школы, первопроходец саунд-арта и музыкант-оригинал. Его перформансы, звуковые инсталляции и музыкальные композиции отличались новаторством, очерченностью, четкостью задумки. Будущий авангардист начинал свой путь в 50-х годах как композитор с классической выучкой; он интересовался современным ему европейским авангардом, теми тенденциями, которые привносил в музыку Дармштадт. Однако Люсье чувствовал, что эта музыка со сложной нотацией, которая вызывает восхищение непроницаемой и загадочной орнаментикой знаков, — не его музыка. Знакомство с творчеством Джона Кейджа и Дэвида Тюдора на концерте в Венеции, а затем и дружба с кружком музыкантов, сложившимся вокруг Кейджа, позволила Люсье найти свой путь. Концерт в венецианском театре «Феникс», где Кейдж и Тюдор исполняли перформанс вместе с танцовщиками группы Мерса Каннингема, произвел такое глубокое впечатление на Люсье, что после этого он год не мог писать музыку.
Люсье одним из первых сделал процесс возникновения музыки, звука прослеживаемым для слушателя в своем перформансе I am siting in the room, в котором многократно перезаписываемый и транслируемый в помещение голос исполнителя преобразуется в дрон, выявляющий акустические свойства самого помещения. В работе Music for Solo Performer 1968 года, который считается первой значительной оригинальной композицией Люсье, в качестве материала для создания звука используются усиленные альфа-ритмы головного мозга, они передаются с помощью мембран динамиков на различные перкуссионные инструменты. Элвин Люсье вдохновлялся звуками природы, феноменами эхолокации, электромагнитными явлениями, в том числе фиксировал для своих записей процессы в ионосфере. В последние годы композитор пишет много музыки для традиционных инструментов, иногда используя осцилляторы, генераторы волн, в ней композитор большое внимание уделяет феномену биений, которые возникают при взаимодействие звуковых высот.
Музыка Люсье зачастую аскетична, она очень проста в том, что касается внутренней структуры и базовых принципов организации, даже может показаться бедной в отношении средств и выражения: в ней минимум перемен, музыкальных жестов, разворачивающихся структур, наподобие гармоний, мелодий и т.д. Американский композитор мало обеспокоен тем, что слушателю может быть скучно: слушатель может развлечь сам себя, может быть заворожен самим звуком в его чистых и минимальных проявления, т.е. феноменальной, конкретной стороной музыки. Сам Люсье рассказывает, что однажды в 70-х годах Карлхайнц Штокхаузен, после того, как посмотрел его партитуры, сказал: «Ваша музыка — всего лишь мгновение моей». В отношении концепций своих работ Люсье тоже прост до элегантности и не тяготеет к интеллектуализации или сложным философемам. Этим отчасти объясняется их эффектность: композитор не пытается объяснить тот или иной перформанс с помощью отсылок к дзен-буддизму или работам Маршалла Маклюэна, ему достаточно интереса к самим явлениям, например, к способности эхолокации у летучих мышей.
Люсье в целом тяготеет к конкретности и эмпирике в своей речи и выступлениях. В силу того, что он преподаватель с почти полувековым стажем, учивший студентов сначала в Брандейсе, а затем в Уэслианском университете, ему приходится выступать с лекциями, затрагивающими общие теоретические вопросы, и рассказывать о судьбах и путях новой музыки. Однако даже в таких случаях он предпочитает быть кратким и конкретным, насколько это возможно, предпочитает опираться на примеры из жизненной практики того или иного композитора или собственной, а не на общие рассуждения и поэтические метафоры. Как вспоминает сам Люсье, в Дармштадте Джон Кейдж, в отличие от других композиторов, предпочитал на своих занятиях не разворачивать сложные теоретические построения, не обосновывать новые способы связи нот и звуков, но рассказывать дзенские притчи, что, по мнению самого Кейджа, профессиональной аудитории было полезнее, чем узнать еще десяток возможных способов присоединять одну ноту к другой.
Интерес к физическим явления, вещам, фактам отнюдь не следствие какой-то сухости или отсутствия фантазии; однажды композитор сказал, что раньше верил, что миром правят практичные люди, тогда как поэты лишь грезят, но теперь он не видит особой разницы между наукой и искусством. Работы Люсье — это интерес к поэзии той сферы, что обычно считается лишенной поэтичности.
Мне удалось поговорить с Элвином Люсье незадолго до его лекции о Нью-Йоркскойшколе композиторов и концерта в Мультимедиа Арт Музее. За эту интересную возможность я хочу особенно поблагодарить организаторов фестиваля, в частности, Егора Хлыстова и художественного руководителя Армана Гущяна.
Несмотря на свой преклонный возраст, композитор бодр, улыбчив, открыт и общителен. Говорит он тихо, но увлеченно и сосредоточенно. Думаю, звуковая обстановка нашей беседы показалась бы любопытной Джон Кейджу — холл гостиницы Гранд Марриотт на Тверской вмещал в себя множество неконтролируемых, живущих собственной жизнью звуков и событий: шорохи шагов и шелест машин на улице, возгласы и шепоты, звонки, неподалеку, в ресторане гостиницы, что-то наигрывал пианист.
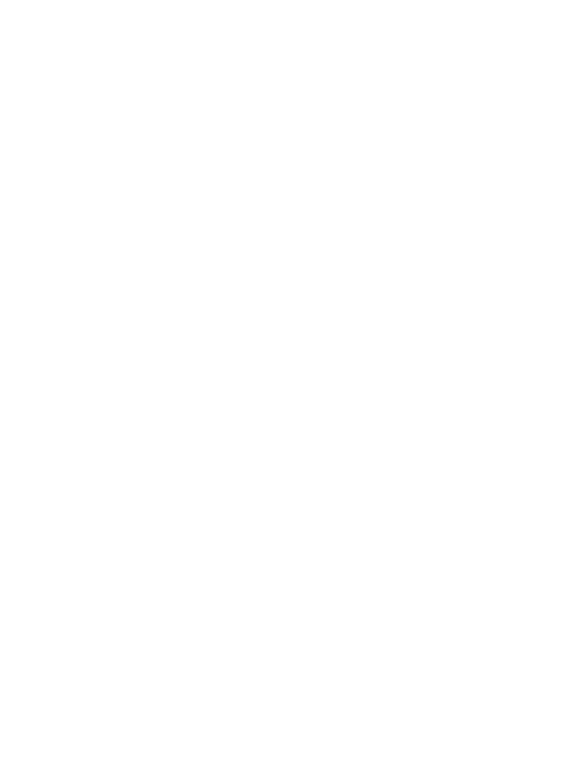
Графическая инструкция/партитура Music for Solo Performer (1965)
Юрий Виноградов: Ваш старший товарищ Джон Кейдж сказал как-то, что хотел бы побывать в особенном музее. Таком, где он мог бы послушать звуки объектов, которые обычно не издают слышимые звуки, — грибных спор и так далее. Теперь, благодаря вашим работам, мы можем слышать альфа-волны головного мозга, гальванические реакции на коже, как в пьесе Clocker, электромагнитные бури в ионосфере, как в пьесе Sferics. Не были ли эти ваши работы попыткой осуществить мечту Кейджа?
Элвин Люсье: Я не знал, что он имел в виду тогда, что он подразумевал под «слушанием объектов». Дело в том, что Кейдж использовал контактные микрофоны, когда он хотел услышать что-то подобное. В этом состояла его идея. Я же делал все совсем иначе, как мне кажется.
ЮВ: Вы часто работали с естественными феноменами — резонансными свойствами помещений, как в известном перформансе I am siting in the room, акустическими свойствами предметов, вроде небольшого заварочного чайника, свойствами длинной проволоки, колебания которой в электромагнитном поле возбуждаются переменным током и затем снимаются с помощью датчиков (речь идет о композиции Music on Long Thin Wire — прим.), и так далее, но сейчас вы много сочиняете для традиционных инструментов, то есть предметов с хорошо изученными акустическими характеристиками. Какова причина такой эволюции вашего личного музыкального языка?
ЭЛ: Некоторые мои друзья-исполнители иногда просят меня написать для них пьесы. Один из первых таких случаев — кларнетист, замечательный исполнитель, который хотел, чтобы я сочинил для него пьесу. Я согласился: «Ок, дай я подумаю о музыке для кларнета, которая могла бы быть написана в моей собственной эстетике».
Осциллятор, источник чистой синусоидальной волны, играет восходящее глиссандо на протяжении всего диапазона звучания кларнета, от нижних нот до верхних. Кларнетист играет отдельные ноты параллельно этому движению так, чтобы возникали биения.
ЮВ: Биения при сочетании двух звуков близкой высоты?
ЭЛ: Да. Мне нравится идея, что ритм может возникнуть только благодаря соотношению высот и ничему иному. Я написал эту композицию в память о Джоне Хиггинсе (коллеге Элвина Люсье по Уэслианскому университету, известному музыканту и специалисту по индийской музыке традиции Карнатака — прим.).
Синусоидальная волна меняет высоту с одной и той же скоростью в течение всей пьесы. Нужно менять высоту с помощью соответствующей ручки. За одним изменением следует другое.
ЮВ: Вы сами управляете высотой тона осциллятора на первой записи?
ЭЛ: Да, он (кларнетист — прим.) попросил меня об этом. Как я уже говорил, одно изменение ведет к другому, к их взаимоотношениям: скажем, тон синусоидальной волны нарастает равномерно, однако с ростом высоты тона ускоряется рост частот. Постепенное ускорение роста частот приводит к тому, что я должен сам реагировать на это при исполнении. Нижняя октава, затем вторая октава, частоты уже удвоены — и так до тех пор, пока частоты не достигнут 4 кГц (Люсье, видимо, говорит о диапозоне фортепиано, а не кларнета, так как нота до пятой октавы на фортепиано находится как раз в районе 4 кГц, для кларнета это слишком высоко — прим.).
Я обнаружил, когда экспериментировал с осциллятором, что по мере роста тона в звуке начинают возникать биения, это происходило из–за естественных отражений, задержек звука при реверберации. Звук отражается в естественной остановке по-разному, я не пользовался электронным панорамированием или реверберацией. В естественной обстановке звучащие ноты всегда сочетают сам изначальный звук и его отражения, что может создавать биения [отражения достигают слушателя с определенной задержкой, в некоторых помещениях, вроде пещер, соборов и цистерн, весьма значительной, см. например записи Полины Оливерос и Deep Listening Band — прим.] .
У меня замечательные исполнители. Они способны поддерживать необходимый ровный тон на кларнете вплоть до минуты, 60 секунд. Если взять тон за минуту до унисона, то быстрые биения будут замедляться, пока не исчезнут, если взять его на полдороге, будет иначе — они будут замедляться, исчезать, а затем ускоряться, если взять в момент унисона… — таким образом в этой пьесе у меня была возможность использовать три различных музыкальных жеста.
Прим.: музыкальный жест — сложное и достаточно неопределенное понятие, которое объединяет в себе все возможные музыкальные движения в самом широком смысле как внутри музыкального материала (движение из тоники в доминанту, к примеру), так и вне его, т.е. телесные и ментальные движения исполнителей, аудитории, композитора. Введение в обиход этого синтетического понятия отражает вполне конкретную потребность музыковедения в понятийном аппарате, который позволил бы относится к музыкальному представлению как к событию, которое происходит в физическом пространстве и в создании которого задействованы реальные физические объекты и тела людей, но которое одновременно влияет на восприятие и состояние сознания слушателей и исполнителей.
Допустим, исполнитель берет ноту в момент унисона. Ему нужно только поддерживать её определенное время, биения же будут ускоряться (за счет все более и более увеличивающегося интервала с тоном синусоидальной волны — прим.), если он берет ее заранее — они будут замедляться.
Так что я написал 30-секундные фрагменты тишины и 18 тонов для кларнета, которые исполнитель просто должен сыграть ровно. Это требует мастерства, большинство исполнителей с этим не справляется. Он (кларнетист — прим.) сказал: «Извините, на высокой ноте я могу держать тон ровно лишь 57 секунд»; я сказал, что, тем не менее, это очень хорошо.
Элвин Люсье. In memoriam Jon Higgins (1984) в исполнении кларнетиста Джона Андерсона
ЮВ: Музыка на традиционных инструментах, получается, оставляет пространство для эксперимента?
ЭЛ: Исполнитель не экспериментирует. Он просто играет ровно.
ЮВ: Но композитор?…
ЭЛ: Да… Чарльз Кёртис, мой друг-виолончелист, для которого я написал много произведений, говорил, что я не должен использовать сложную нотацию, ведь ему [при исполнении] нужно уделять внимание звуку, а не нотам.
Как-то я был на одном мастер-классе, принесли партитуры, я просмотрел их, они были очень сложные, в них можно было потеряться! Для исполнителей есть разница: если вы исполняете Брайана Фернихоу, вы нуждаетесь в подобной нотации, но исполнители моей музыки в первую очередь должны слушать, они должны сохранять концентрацию.
ЮВ: Ваша музыка, в некотором смысле, очень телесна. Она пригвождает внимание слушателей, музыкантов к телам, к объектам, к пространствам, не к абстрактным понятиям.
ЭЛ: Некоторые люди говорят, что, когда слышат мою музыку, скорее обращают внимание не на то, ЧТО они слышат, но на то, КАК они слышат, они обращают внимание на то, каким образом воспринимают звук. То, как я все это слышу, очень отличается от того, как слышат другие люди. Я не делаю ничего, что рассеивало бы их сосредоточенное восприятие, не использую никаких расширенных техник. Тембр может быть сложным, но чтобы услышать биения, вы должны играть просто и чисто, без шума.
ЮВ: Именно поэтому вы используете в своей музыке простые тембры, синусоидальные волны.
ЭЛ: Да.
ЮВ: Название вашей вчерашней лекции и всего крупного фестиваля, посвященного вашей музыке, что проходит сейчас в Москве, — Everything is Real. Как этот девиз соотносится с вашей музыкой, с вашими мыслями?
ЭЛ: Пианистка Aki Takahashi попросила меня написать пьесу для фортепиано по мотивам песни The Beatles Strawberry Fields Forever. Она предложила название по строчке из песни Nothing is Real, так как считала, что это название очень подходит моей музыке. Но она ошиблась — мои работы не о ничто, мои работы всегда о чем-то настоящем. Меня интересовали летучие мыши, звуки и волны, которые издают летучие мыши, дельфины.
Представьте, в середине 60-х годов ХХ века я слышал всю эту музыку, что делали Булез, европейцы, но это не было моей музыкой. Затем я встретил Джона Кейджа и он освободил меня для того, чтобы сделать что-то свое.
Когда я создавал пьесу для альфа-волн головного мозга (Music for Solo Performer — прим.), именно он придал мне смелости закончить её. Все мои коллеги говорили, что это глупая затея, тупая идея.
В то время я как раз хотел пригласить Кейджа выступить у нас в Брандейсе и позвонил ему с этим предложением. Он согласился, но с условием, что я также представлю какую-то свою композицию. Я тогда экспериментировал с усилением альфа-волн, но не был уверен, что это сработает. Кейдж сказал мне, что не важно, сработает это или нет, я просто должен попробовать.
ЮВ: Почему Кейдж сказал так, как вы думаете?
ЭЛ: Потому что он был позитивным человеком.
Первоначальная идея сделать запись усиленных и обработанных альфа-ритмов с помощью магнитофона в студии показалась мне неинтересной, дурацкой, в отличие от живого исполнения на сцене. Джон Кейдж и Дэвид Тюдор всегда работали с электроникой вживую. В Европе того времени студии экспериментальной музыки записывали пьесы на магнитофонную ленту, так что на концерте музыка просто звучала из динамиков. В этом было что-то мертвое, непонятно, откуда брался звук, как он возникал.
Джон Кейдж и Дэвид Тюдор играли как-то живой концерт с электроникой в Массачусетском технологическом институте. Вы знаете МТИ? Был снежный шторм, но все равно Тюдор и Кейдж встали рано и приехали, в зале было всего 10 студентов-слушателей, но музыканты разложили инструменты, электронику. И это было очень вдохновляюще. После всего этого идея записать альфа-ритмы на магнитофонную ленту перестала казаться интересной. Напротив, в живом исполнении было бы что-то более человеческое.
***
Элвин рассказывает здесь в нескольких штрихах историю, раскрытую подробнее в более раннем интервью:
Был сильный снежный шторм в Массачусетсе. Джон Кейдж и Дэвид Тюдор приехали и выступали на сцене Маcсачусетского технологического института. Было мало людей в зале, но я подумал: «Здорово! Эти ребята приехали, они работали, должны были встать рано. Они подготовили концерт, все сделали сами. Они не ждали, пока Бостонский симфонический сделает за них это», понимаете о чем я? Они просто вышли к миру сами и сделали это.
Это вдохновляло. Я думаю, молодые композиторы занимаются тем же самым. Количество энергии и самоотдача, которые вы можете увидеть на Манхэттене каждую неделю, просто потрясают. И очень важно, что мы не застряли в академической среде или чем-то подобном. Мы могли ездить куда угодно и выступать практически где угодно. Некоторые мои коллеги в школе в Брандейсе расстраиваются, что люди не играют их работы. Но я просто отправлялся куда-то с Кейджем и Тюдором, они не расстраивались, они ничего не ждали, они просто ехали куда-то и играли свои сочинения.
На самом деле многие композиторы в XIX веке делали так же. Вы можете прочитать о Гекторе Берлиозе, который сам организовывал концерты, собирал деньги, продавал билеты. Для нас все это тоже было естественно.
Элвин Люсье: Я не знал, что он имел в виду тогда, что он подразумевал под «слушанием объектов». Дело в том, что Кейдж использовал контактные микрофоны, когда он хотел услышать что-то подобное. В этом состояла его идея. Я же делал все совсем иначе, как мне кажется.
ЮВ: Вы часто работали с естественными феноменами — резонансными свойствами помещений, как в известном перформансе I am siting in the room, акустическими свойствами предметов, вроде небольшого заварочного чайника, свойствами длинной проволоки, колебания которой в электромагнитном поле возбуждаются переменным током и затем снимаются с помощью датчиков (речь идет о композиции Music on Long Thin Wire — прим.), и так далее, но сейчас вы много сочиняете для традиционных инструментов, то есть предметов с хорошо изученными акустическими характеристиками. Какова причина такой эволюции вашего личного музыкального языка?
ЭЛ: Некоторые мои друзья-исполнители иногда просят меня написать для них пьесы. Один из первых таких случаев — кларнетист, замечательный исполнитель, который хотел, чтобы я сочинил для него пьесу. Я согласился: «Ок, дай я подумаю о музыке для кларнета, которая могла бы быть написана в моей собственной эстетике».
Осциллятор, источник чистой синусоидальной волны, играет восходящее глиссандо на протяжении всего диапазона звучания кларнета, от нижних нот до верхних. Кларнетист играет отдельные ноты параллельно этому движению так, чтобы возникали биения.
ЮВ: Биения при сочетании двух звуков близкой высоты?
ЭЛ: Да. Мне нравится идея, что ритм может возникнуть только благодаря соотношению высот и ничему иному. Я написал эту композицию в память о Джоне Хиггинсе (коллеге Элвина Люсье по Уэслианскому университету, известному музыканту и специалисту по индийской музыке традиции Карнатака — прим.).
Синусоидальная волна меняет высоту с одной и той же скоростью в течение всей пьесы. Нужно менять высоту с помощью соответствующей ручки. За одним изменением следует другое.
ЮВ: Вы сами управляете высотой тона осциллятора на первой записи?
ЭЛ: Да, он (кларнетист — прим.) попросил меня об этом. Как я уже говорил, одно изменение ведет к другому, к их взаимоотношениям: скажем, тон синусоидальной волны нарастает равномерно, однако с ростом высоты тона ускоряется рост частот. Постепенное ускорение роста частот приводит к тому, что я должен сам реагировать на это при исполнении. Нижняя октава, затем вторая октава, частоты уже удвоены — и так до тех пор, пока частоты не достигнут 4 кГц (Люсье, видимо, говорит о диапозоне фортепиано, а не кларнета, так как нота до пятой октавы на фортепиано находится как раз в районе 4 кГц, для кларнета это слишком высоко — прим.).
Я обнаружил, когда экспериментировал с осциллятором, что по мере роста тона в звуке начинают возникать биения, это происходило из–за естественных отражений, задержек звука при реверберации. Звук отражается в естественной остановке по-разному, я не пользовался электронным панорамированием или реверберацией. В естественной обстановке звучащие ноты всегда сочетают сам изначальный звук и его отражения, что может создавать биения [отражения достигают слушателя с определенной задержкой, в некоторых помещениях, вроде пещер, соборов и цистерн, весьма значительной, см. например записи Полины Оливерос и Deep Listening Band — прим.] .
У меня замечательные исполнители. Они способны поддерживать необходимый ровный тон на кларнете вплоть до минуты, 60 секунд. Если взять тон за минуту до унисона, то быстрые биения будут замедляться, пока не исчезнут, если взять его на полдороге, будет иначе — они будут замедляться, исчезать, а затем ускоряться, если взять в момент унисона… — таким образом в этой пьесе у меня была возможность использовать три различных музыкальных жеста.
Прим.: музыкальный жест — сложное и достаточно неопределенное понятие, которое объединяет в себе все возможные музыкальные движения в самом широком смысле как внутри музыкального материала (движение из тоники в доминанту, к примеру), так и вне его, т.е. телесные и ментальные движения исполнителей, аудитории, композитора. Введение в обиход этого синтетического понятия отражает вполне конкретную потребность музыковедения в понятийном аппарате, который позволил бы относится к музыкальному представлению как к событию, которое происходит в физическом пространстве и в создании которого задействованы реальные физические объекты и тела людей, но которое одновременно влияет на восприятие и состояние сознания слушателей и исполнителей.
Допустим, исполнитель берет ноту в момент унисона. Ему нужно только поддерживать её определенное время, биения же будут ускоряться (за счет все более и более увеличивающегося интервала с тоном синусоидальной волны — прим.), если он берет ее заранее — они будут замедляться.
Так что я написал 30-секундные фрагменты тишины и 18 тонов для кларнета, которые исполнитель просто должен сыграть ровно. Это требует мастерства, большинство исполнителей с этим не справляется. Он (кларнетист — прим.) сказал: «Извините, на высокой ноте я могу держать тон ровно лишь 57 секунд»; я сказал, что, тем не менее, это очень хорошо.
Элвин Люсье. In memoriam Jon Higgins (1984) в исполнении кларнетиста Джона Андерсона
ЮВ: Музыка на традиционных инструментах, получается, оставляет пространство для эксперимента?
ЭЛ: Исполнитель не экспериментирует. Он просто играет ровно.
ЮВ: Но композитор?…
ЭЛ: Да… Чарльз Кёртис, мой друг-виолончелист, для которого я написал много произведений, говорил, что я не должен использовать сложную нотацию, ведь ему [при исполнении] нужно уделять внимание звуку, а не нотам.
Как-то я был на одном мастер-классе, принесли партитуры, я просмотрел их, они были очень сложные, в них можно было потеряться! Для исполнителей есть разница: если вы исполняете Брайана Фернихоу, вы нуждаетесь в подобной нотации, но исполнители моей музыки в первую очередь должны слушать, они должны сохранять концентрацию.
ЮВ: Ваша музыка, в некотором смысле, очень телесна. Она пригвождает внимание слушателей, музыкантов к телам, к объектам, к пространствам, не к абстрактным понятиям.
ЭЛ: Некоторые люди говорят, что, когда слышат мою музыку, скорее обращают внимание не на то, ЧТО они слышат, но на то, КАК они слышат, они обращают внимание на то, каким образом воспринимают звук. То, как я все это слышу, очень отличается от того, как слышат другие люди. Я не делаю ничего, что рассеивало бы их сосредоточенное восприятие, не использую никаких расширенных техник. Тембр может быть сложным, но чтобы услышать биения, вы должны играть просто и чисто, без шума.
ЮВ: Именно поэтому вы используете в своей музыке простые тембры, синусоидальные волны.
ЭЛ: Да.
ЮВ: Название вашей вчерашней лекции и всего крупного фестиваля, посвященного вашей музыке, что проходит сейчас в Москве, — Everything is Real. Как этот девиз соотносится с вашей музыкой, с вашими мыслями?
ЭЛ: Пианистка Aki Takahashi попросила меня написать пьесу для фортепиано по мотивам песни The Beatles Strawberry Fields Forever. Она предложила название по строчке из песни Nothing is Real, так как считала, что это название очень подходит моей музыке. Но она ошиблась — мои работы не о ничто, мои работы всегда о чем-то настоящем. Меня интересовали летучие мыши, звуки и волны, которые издают летучие мыши, дельфины.
Представьте, в середине 60-х годов ХХ века я слышал всю эту музыку, что делали Булез, европейцы, но это не было моей музыкой. Затем я встретил Джона Кейджа и он освободил меня для того, чтобы сделать что-то свое.
Когда я создавал пьесу для альфа-волн головного мозга (Music for Solo Performer — прим.), именно он придал мне смелости закончить её. Все мои коллеги говорили, что это глупая затея, тупая идея.
В то время я как раз хотел пригласить Кейджа выступить у нас в Брандейсе и позвонил ему с этим предложением. Он согласился, но с условием, что я также представлю какую-то свою композицию. Я тогда экспериментировал с усилением альфа-волн, но не был уверен, что это сработает. Кейдж сказал мне, что не важно, сработает это или нет, я просто должен попробовать.
ЮВ: Почему Кейдж сказал так, как вы думаете?
ЭЛ: Потому что он был позитивным человеком.
Первоначальная идея сделать запись усиленных и обработанных альфа-ритмов с помощью магнитофона в студии показалась мне неинтересной, дурацкой, в отличие от живого исполнения на сцене. Джон Кейдж и Дэвид Тюдор всегда работали с электроникой вживую. В Европе того времени студии экспериментальной музыки записывали пьесы на магнитофонную ленту, так что на концерте музыка просто звучала из динамиков. В этом было что-то мертвое, непонятно, откуда брался звук, как он возникал.
Джон Кейдж и Дэвид Тюдор играли как-то живой концерт с электроникой в Массачусетском технологическом институте. Вы знаете МТИ? Был снежный шторм, но все равно Тюдор и Кейдж встали рано и приехали, в зале было всего 10 студентов-слушателей, но музыканты разложили инструменты, электронику. И это было очень вдохновляюще. После всего этого идея записать альфа-ритмы на магнитофонную ленту перестала казаться интересной. Напротив, в живом исполнении было бы что-то более человеческое.
***
Элвин рассказывает здесь в нескольких штрихах историю, раскрытую подробнее в более раннем интервью:
Был сильный снежный шторм в Массачусетсе. Джон Кейдж и Дэвид Тюдор приехали и выступали на сцене Маcсачусетского технологического института. Было мало людей в зале, но я подумал: «Здорово! Эти ребята приехали, они работали, должны были встать рано. Они подготовили концерт, все сделали сами. Они не ждали, пока Бостонский симфонический сделает за них это», понимаете о чем я? Они просто вышли к миру сами и сделали это.
Это вдохновляло. Я думаю, молодые композиторы занимаются тем же самым. Количество энергии и самоотдача, которые вы можете увидеть на Манхэттене каждую неделю, просто потрясают. И очень важно, что мы не застряли в академической среде или чем-то подобном. Мы могли ездить куда угодно и выступать практически где угодно. Некоторые мои коллеги в школе в Брандейсе расстраиваются, что люди не играют их работы. Но я просто отправлялся куда-то с Кейджем и Тюдором, они не расстраивались, они ничего не ждали, они просто ехали куда-то и играли свои сочинения.
На самом деле многие композиторы в XIX веке делали так же. Вы можете прочитать о Гекторе Берлиозе, который сам организовывал концерты, собирал деньги, продавал билеты. Для нас все это тоже было естественно.
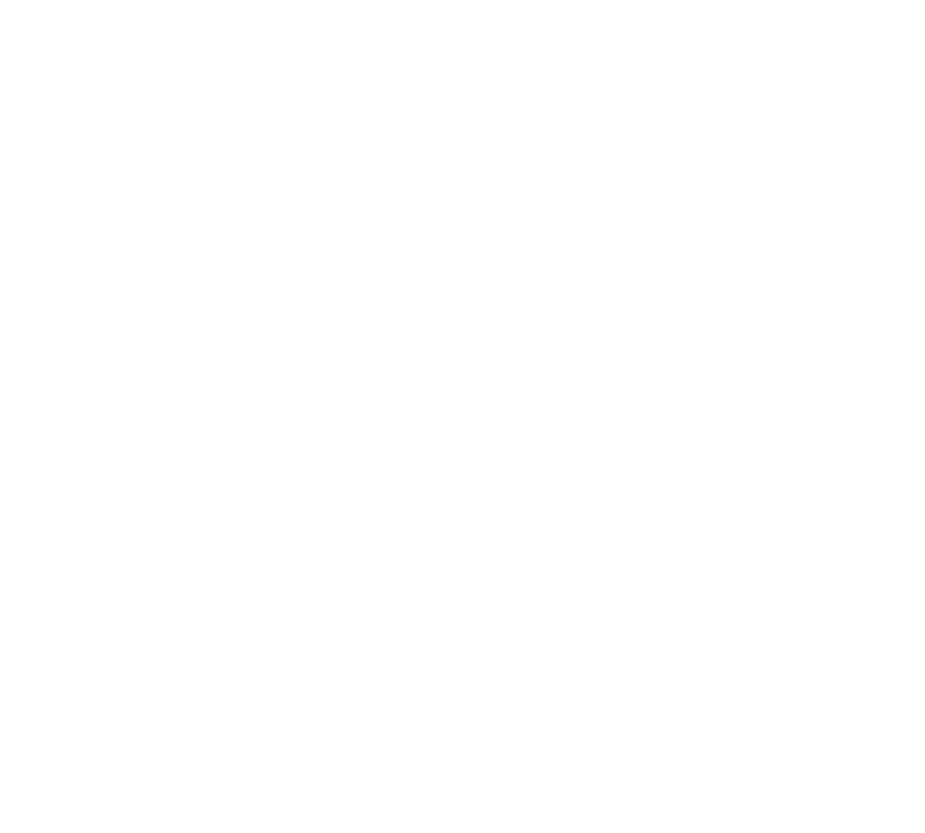
Инструкция/партитура Music on a Long Thin Wire (1977)
ЮВ: Вы упоминали, что публика изменилась, что люди стали слушать внимательнее, сосредоточеннее. Как вы думаете, почему? Быть может, то, что делали вы, Кейдж и другие заложило для этого почву?
ЭЛ: Кейджу никогда не нравилась моя музыка, так как в ней для Джона слишком очевидны были связи причин и следствий. Он этого не любил. Когда исполняли Vespers, он сказал, что не понимает их. Заметил, что те, кто хорошо играет на фортепиано, не остались на перформансе. Почему Кейдж не играл Штокхаузена? Потому что не понимал его. То, что он не понимал, ему не нравилось. Я думаю, ему не нравились Vespers оттого, что в них был детерминизм.
Полагаю, он считал, что взаимодействия в природе носят случайный характер, что природа действует случайно; в 50-х это была распространенная идея. Но если вы посмотрите на природу — вы не увидите ничего случайного.
Прим.: не уверен, что правильно понял, что имел в виду Элвин Люсье. Кейджу, насколько мне известно, не нравилось как раз то, что он полностью понимает. Он недвусмысленно говорил об этом в нескольких своих интервью, в том числе косвенно в связи с музыкой Люсье:
«Я люблю, чтобы искусство оставалось тайной. Пока книга, картина или музыкальное произведение мною не поняты, я могу ими пользоваться. Пользоваться — значит с их помощью задействовать свои способности. Если мне становится понятно то, с чем я имею дело, дальше ему место на полке…» (см. «Разговоры с Кейджем,» Р. Костелянец, Ад Маргинем Пресс).
Музыка Штокхаузена, насколько я могу судить, не нравилась Кейджу по сходным причинам: по мнению американского композитора, Штокхаузен был слишком заинтересован результатом, тогда как Кейджа интересовал сам процесс создания музыки. Карлхайнца Штокхаузена интересовали связи и закономерности, соотношения, музыкальные причины и следствия, тогда как Кейджа — отдельные звуки и неопределенность.
ЮВ: Но что же все–таки с публикой? У вас есть какие-то мысли, почему она изменилась?
ЭЛ: Я много преподаю и сейчас. О современных студентах обычно принято говорить, что они ничего не знают, когда приходят учиться. Но дело просто в том, что они не знают того, что знаем мы, и наоборот. Я говорю им обычно: «Не верьте сразу всему, что слышите!».
Еще я говорю им, что они слушают сложную рок-музыку, полную шумов, так что они достаточно подготовлены и для всякой другой. Я говорю им все это, но на самом деле я не знаю. Их музыка — Metallica и так далее — совсем иная, чем была моя. Я не знаю.
ЮВ:Пьер Шеффер, один из пионеров конкретной музыки в Европе, как-то сказал, что его труды были ошибкой и что лишь ближе к концу жизни он осознал, что за пределами «до-ре-ми» нет музыки. Последний, быть может, провокационный вопрос: чувствуете ли вы нечто вроде солидарности с ним или, напротив, чувствуете множество открытых путей для совершенно новой музыки?
ЭЛ: Мой друг, профессор физики (предположительно имеется в виду Хауке Хардер, друг и коллега Элвина Люсье, автор фильма о его музыке и жизни No Ideas But In Things — прим.) говорит, что серии звучащих обертонов не найдешь в природе, тогда как эхо вполне естественно. Электронная музыка неестественна, но эхо, которое совсем не представляет из себя какую-либо гармоническую последовательность, полностью принадлежит природе, оно связано с пространством и временем, оно позволяет определить расстояние и так далее. Я работал с озвучиванием естественных явлений — биений, альфа-волн, с эхом.
ЮВ: Это одна из новых дорог для музыки?
ЭЛ: Да.
ЭЛ: Кейджу никогда не нравилась моя музыка, так как в ней для Джона слишком очевидны были связи причин и следствий. Он этого не любил. Когда исполняли Vespers, он сказал, что не понимает их. Заметил, что те, кто хорошо играет на фортепиано, не остались на перформансе. Почему Кейдж не играл Штокхаузена? Потому что не понимал его. То, что он не понимал, ему не нравилось. Я думаю, ему не нравились Vespers оттого, что в них был детерминизм.
Полагаю, он считал, что взаимодействия в природе носят случайный характер, что природа действует случайно; в 50-х это была распространенная идея. Но если вы посмотрите на природу — вы не увидите ничего случайного.
Прим.: не уверен, что правильно понял, что имел в виду Элвин Люсье. Кейджу, насколько мне известно, не нравилось как раз то, что он полностью понимает. Он недвусмысленно говорил об этом в нескольких своих интервью, в том числе косвенно в связи с музыкой Люсье:
«Я люблю, чтобы искусство оставалось тайной. Пока книга, картина или музыкальное произведение мною не поняты, я могу ими пользоваться. Пользоваться — значит с их помощью задействовать свои способности. Если мне становится понятно то, с чем я имею дело, дальше ему место на полке…» (см. «Разговоры с Кейджем,» Р. Костелянец, Ад Маргинем Пресс).
Музыка Штокхаузена, насколько я могу судить, не нравилась Кейджу по сходным причинам: по мнению американского композитора, Штокхаузен был слишком заинтересован результатом, тогда как Кейджа интересовал сам процесс создания музыки. Карлхайнца Штокхаузена интересовали связи и закономерности, соотношения, музыкальные причины и следствия, тогда как Кейджа — отдельные звуки и неопределенность.
ЮВ: Но что же все–таки с публикой? У вас есть какие-то мысли, почему она изменилась?
ЭЛ: Я много преподаю и сейчас. О современных студентах обычно принято говорить, что они ничего не знают, когда приходят учиться. Но дело просто в том, что они не знают того, что знаем мы, и наоборот. Я говорю им обычно: «Не верьте сразу всему, что слышите!».
Еще я говорю им, что они слушают сложную рок-музыку, полную шумов, так что они достаточно подготовлены и для всякой другой. Я говорю им все это, но на самом деле я не знаю. Их музыка — Metallica и так далее — совсем иная, чем была моя. Я не знаю.
ЮВ:Пьер Шеффер, один из пионеров конкретной музыки в Европе, как-то сказал, что его труды были ошибкой и что лишь ближе к концу жизни он осознал, что за пределами «до-ре-ми» нет музыки. Последний, быть может, провокационный вопрос: чувствуете ли вы нечто вроде солидарности с ним или, напротив, чувствуете множество открытых путей для совершенно новой музыки?
ЭЛ: Мой друг, профессор физики (предположительно имеется в виду Хауке Хардер, друг и коллега Элвина Люсье, автор фильма о его музыке и жизни No Ideas But In Things — прим.) говорит, что серии звучащих обертонов не найдешь в природе, тогда как эхо вполне естественно. Электронная музыка неестественна, но эхо, которое совсем не представляет из себя какую-либо гармоническую последовательность, полностью принадлежит природе, оно связано с пространством и временем, оно позволяет определить расстояние и так далее. Я работал с озвучиванием естественных явлений — биений, альфа-волн, с эхом.
ЮВ: Это одна из новых дорог для музыки?
ЭЛ: Да.
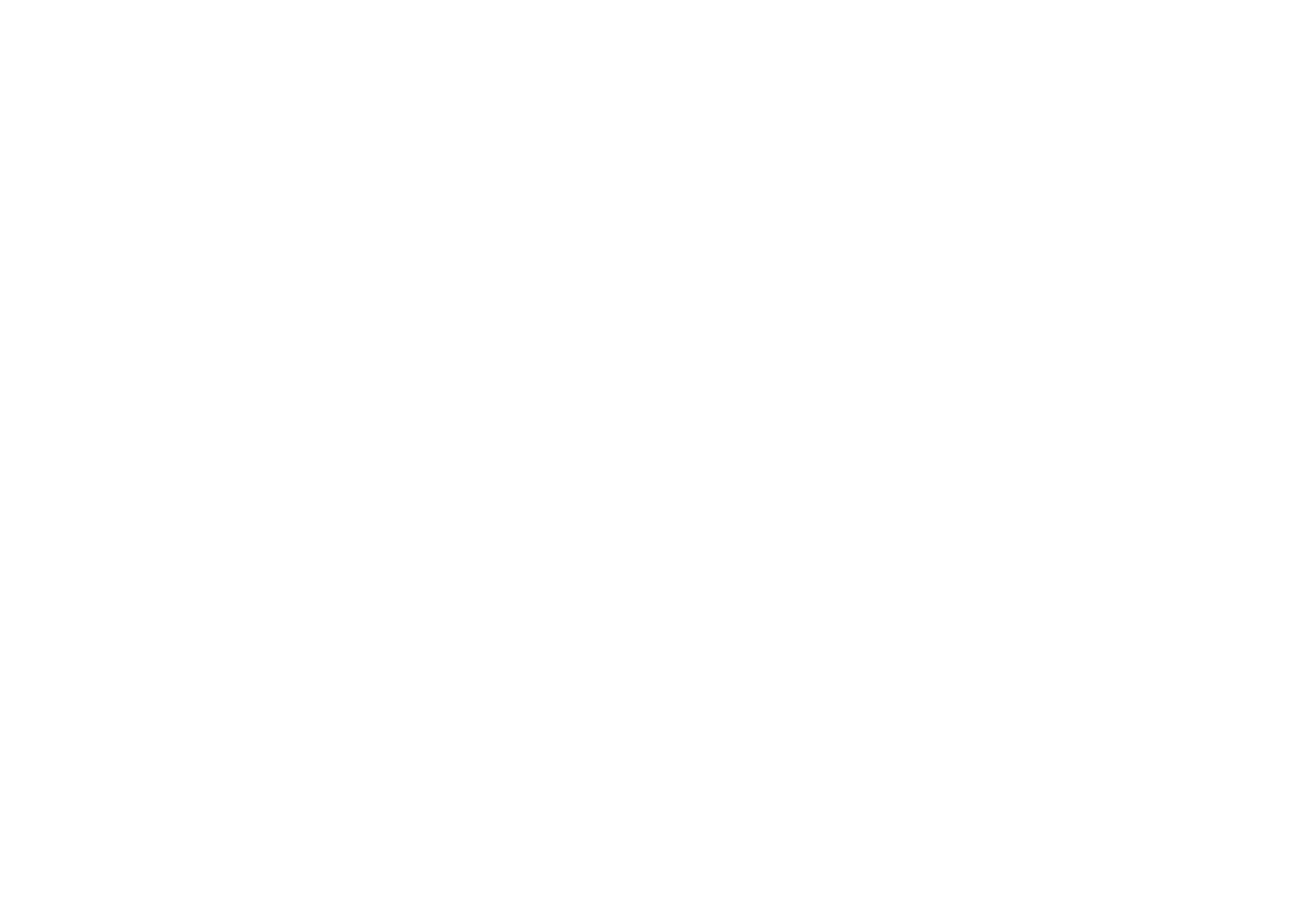
Stravinsky.Online
— Арман, расскажите, почему Вы решили провести фестиваль-посвящение именно Элвину Люсье?
— Музыка Люсье – это опыт, который меняет у слушающего его представления о том, какой может быть музыка и как иначе можно её слушать. Люсье открывает слушателю, что из себя представляет звук и акустика пространства, и многие другие природные феномены, которые он как бы «вскрывает», в том числе используя технологию. Ну, и потому что Люсье – важная для истории музыки фигура, и очень хотелось его увидеть и услышать живьём в Москве.
— Почему, на Ваш взгляд, Люсье имеет такое значение для музыки?
—Если говорить о фактах, то он один из пионеров саунд-арта: один из первых создателей звуковых инсталляций, один из первых создателей инструктивных текстовых партитур открытых композиций; первый, кто сделал акустику пространства главным действующим элементом музыки. Он – один из первых композиторов, кто вывел звук из контекста музыкальной композиции, сделав его самостоятельным предметом наблюдения, а наблюдение за действующим звуком – самостоятельным художественным актом.
Во всём своем творчестве Люсье с завидной точностью и последовательностью реализует свою отличающуюся и от европейского авангарда, и от традиционного музыкального мышления творческую парадигму.
Если условно разделить «авангардное» и «традиционное» музыкальное мышление по оси отношения автора к создаваемому им произведению, то на полюсе «авангарда» будет создание нового материала и новых форм, и как результат – нового эстетического опыта автора и слушателя, тогда как на другом полюсе будет порождение автором синкретического артефакта, точно выражающего его личное содержание (чувств и мыслей), которые в идеальном случае должны вызвать у слушателя точно такой же интуитивный отклик.
Конечно же, не инновационность, которая может быть в обоих полюсах в разной степени, их разделяет в корне, а эстетический вектор – в одном случае он от объекта к субъекту, а в другом – от субъекта к объекту. Но важно то, что в обоих случаях – артефакты создаются автором, по авторскому замыслу и по его воле. Люсье же, в его самых знаковых произведениях, на мой взгляд, между этими полюсами не оказывается, потому что он ни создает произвольные формы, ни выражает личного содержания. Он использует в искусстве парадигму экспериментального исследования физической реальности, взятую из мира науки, концентрируясь на каком-либо одном природном феномене и создавая разные процессы их исследования. При этом в каждом его произведении — правила игры заданы и неизменны, а формой целого становится фактическое осуществление одного единого процесса — с его началом, движением по какому-то принципу и его окончанием. А в случае с I am sitting in a room эти правила игры просто произносятся исполнителем вслух и становятся единственным исходным материалом произведения – слушатель перестаёт рефлексировать идеи, перестаёт следить за развитием формы и концентрируется на свойствах звуков и процессе происходящих качественных изменений.
Таким образом, становясь исследователем, он в большой степени свою роль творца атрефактов нивелирует, становясь соавтором с природой, соавтором со всем разнообразием живых процессов, которые произходят во время «экспериментирования» в реальном времени, и даже соавтором со всеми исполнителями, которые также с достаточно большой степенью свободы воспроизводят это исследование — с новым материалом и в новых обстоятельствах.
— А разве исследование и эксперимент не являются также нормальным творческим процессом и для авангардных композиторов?
— Верно, но авангардные композиторы используют их для открытия новых композиционных возможностей — т.е. находят новые идеи для организации звуков, либо находят новые звуки — акустических инструментов или же электроакустические. А найденное они «закрепляют» в конкретных композициях, которые становятся уже классическим законченным текстом. Для Люсье же, как и для других композиторов экспериментальной музыки, сами композиции или перформансы становятся полем исследования — эксперимента с ситуацией, с живым и всегда разным материалом — физическим, биологическим, технологическим. Его эксперимент часто не становится фиксированным результатом, который можно и нужно в точности воспроизводить, как происходит в большинстве случаев в авангардной музыке, а становится принципом исследования каждый раз разной реальности. И это напряжение ситуации зарождающегося здесь и сейчас индивидуального акустического результата — порождает другого рода напряжение внимания уже у слушателя.
"Люсье не интересно в точности осуществлять какие-то теоретические проекции – потому что реальность оказывается интереснее и разнообразнее теоретических моделей."
— А как именно создаётся произведение, акцентирующее наше внимание на акустических свойствах звука?
— Люсье создаёт очень ограниченный набор действий, которые в течение довольно длительного времени повторяются. Поскольку процесс вскоре становится очевидным и наглядным, мы перестаем концентрироваться на действиях и переключаем внимание на эффект от действий, который в какой-то момент из как бы блеклого второстепенного материала нашего «периферического зрения» вдруг становится материалом очень живым и ярким. Мы не слушаем форму, потому что в неё не вложена идея — она либо зависит от внешних по отношению к автору фигур, не имеющих риторической силы выражения (например форма линии горизонта швейцарских гор в одной из его пьес), либо является универсальной и потому предсказуемой абстракцией, не несущей в себе какой-либо частной идеи (как, например, форма сплошной медленной глиссандирующей линии от низкого тона до высокого). Потому мы перестаём обращать внимание на «игру форм». Действия становятся одномерными, а акустические процессы — многомерными и бесконечно разнообразными, как игра языков пламени. Таким образом, мы оказываемся чувствительными к мельчайшим изменениям качеств звука и состояния акустики в каждом последующем моменте времени.
— Композитор экспериментирует вместе с исполнителями или каким-то образом заранее высчитывает, что именно должно получиться?
— Конечно, во время создания он опытно изучает поведение звука. Но часто заранее просчитать точный конечный результат невозможно, и такой задачи не стоит. Люсье принципиально придерживается именно экспериментального типа отношения к музыкальному материалу — и к его созданию, и к исполнению.
У нас было два концерта, на которых Люсье доказал это. Я очень боялся за исполнение его струнного квартета в Мультимедиа Арт Музее, поскольку его фойе не спроектировано для проведения концертов – в нём очень сложная акустика. Я не знал, делать ли усиление, чтобы оказались явными те акустические чудеса, ради которых оно создавалось – без них произведение не состоялось бы. Когда я спросил мнение Люсье, он сказал, что этот вопрос нельзя решить, не послушав конкретное произведение в этом конкретном зале. И затем, когда мы его услышали — к моему удивлению — оно звучало прекрасно! Люсье обратил внимание, что его стратегия была правильной.
А второй случай – это исполнение I am sitting in a room в Камерном зале Дома музыки. Казалось бы, что может пойти не так в профессиональном концертном зале? Но Хауке Хардеру было очень сложно настроить электронику перформанса для этой акустики. Потому что каждый зал звучит совершенно непредсказуемо.
Люсье не интересно в точности осуществлять какие-то теоретические проекции — потому что реальность оказывается интереснее и разнообразнее теоретических моделей. Ему интересно прийти и исследовать реальность, как данность (опять же нивелируя в себе планирующего автора), иногда не желая даже заранее знакомиться с акустикой зала, для которого собирается писать новое произведение. Поэтому всегда, даже в точно нотированной партитуре, он оставляет пространство для экспериментальности живого исполнения.
— Но не становится тогда одно и то же произведение, исполненное в разных залах, разными пьесами?
— Нет, наоборот! Ведь если бы у автора была определенная картина того, что должно произойти, то при следующем исполнении получив отличающийся результат — получилось бы и другое произведение — потому что оно бы не соответствовало изначальному представлению. Идентичность его произведения — не в конечном результате, а в определенном для этого произведения предмете и методе исследования.
— Видимо, именно поэтому при исполнении пьесы Ricochete Lady для колокольчиков инструмент стоял в самом зале, а не на сцене?
— Да, Элвин ставил музыканта в разные точки и слушал, как будет звучать. Ему было абсолютно всё равно, что он не будет стоять на сцене; ему было важно, чтобы звуки ударов по колокольчикам отражались от стен и перемещались в пространстве по интересной траектории.
"Идентичность произведения — не в конечном результате, а в определенном для этого произведения предмете и методе исследования."
— На творческой встрече в консерватории Люсье вспоминал, что его идейный вдохновитель Джон Кейдж однажды сказал ему: «Не используй свое воображение». Что он имел в виду? Люсье на встрече не решился ответить на этот вопрос…
— Это высказывание отражает немного другую, но тоже очень близкую — философию «экспериментального» в искусстве, которой и вдохновился Люсье. Кейджу было интересно всячески препятствовать возникновению структур, которые человек волей или неволей конструирует своим сознанием. Сам он делал это по-разному, например, с помощью случайных цифр. Ему было важно не дать сознанию построить формы, потому что любые созданные им формы — это уже сюжет, высказывание, это уже автор. Не дав им возникнуть, он превращает звуковой материал в самостоятельный объект или в звуковую среду, а не в личное сообщение. Таким образом, он встает на позицию воспринимающего, а не говорящего, он становится не высказывающимся, а наблюдающим. В этом есть дзен-буддийская философия принятия (в противоположность активному действу). И в этом заключается «экспериментальность», «опытность» (от слова experience) — индетерминизма Кейджа. То есть во главу угла становится не воображение и конструирование форм и сообщений, а опыт приятия и восприятия явлений такими, какие они есть сами по себе. Совет Кейджа «Don't use your imagination», которому Люсье, по-видимому, в своё время последовал, означает — не используй свои собственные мысли, не вкладывай своё воображение, дай случиться тому, что может случиться без тебя. Встань рядом и послушай. А если ты используешь своё воображение, то ты уже направляешь процесс.
Элвину Люсье идея случайности и техника индетерминизма Кейджа не близки, так как, по его мнению, в природе, на которую ссылается Джон Кейдж как оправдание своего метода («I immitate nature in her manner of operation»), ничего случайного нет. Всё взаимозависимо и взаимообусловлено. Люсье также, как и Кейджа, не интересует идея самовыражения в искусстве, но интересует выразительность как таковая. Он говорит: если вы посмотрите на реку, вы увидите, что она прекрасна, она в высшей степени выразительна. Но она существует не для того, чтобы себя выразить. И таким же образом может существовать и такая выразительная музыка, которая такова не потому и не для того, чтобы что-то выражать.
Отсюда и другой подход Люсье к исполнению музыки. Он тоже призывает не управлять музыкой своим воображением, своим чувством, своими идеями — а только лишь «исследовать», идти по следам реальности и реагировать на ее обратную связь.
— Расскажите, как пришла идея организовать фестиваль?
— В 2012 году я жил между Германией и Россией, преподавал в консерватории и в то же время стажировался в Дрездене. У меня была возможность посещать различные фестивали, в частности, MaerzMusik. Гостями фестиваля были композиторы группы Sonic Arts Union, включая Элвина Люсье. Я тогда впервые познакомился с его музыкой, посмотрел документальный фильм Хауке Хардера и Виолы Руше о Люсье и понял, что это совершенно потрясающее явление в музыке, которое каким-то образом прошло мимо меня, в том числе потому, что о нём так мало известно в России.
Так получилось, что эта встреча совпала с моими собственными композиторскими поисками. Незадолго до этого я погрузился в изучение различных акустических феноменов и написал пьесу — «Four No Questions» — живую звуковую инсталляцию, как я это называю. Каждый из трех музыкантов располагается у одной из четырёх стен комнаты и играет в направлении стены, т.е. сидит спиной к слушателям, находящихся в центре зала, между музыкантами. Вся эта композиция была теоретически рассчитана, и я предполагал, что этот эксперимент даст интересный звуковой результат, но то, что в итоге получилось, вызвало у меня восторг — это были стоячие звуковые волны, биения и комбинационные тоны, которые, как я уже потом узнал, так любит Люсье.
Буквально через месяц после этого я услышал на фестивале MaerzMusik пьесу Люсье «Navigations for strings» в исполнении Квартета Ардитти. В центре огромного зала Берлинской филармонии компактно сидел квартет и в течение 20 с лишним минут играл постоянно сужающийся до унисона четырехзвучный кластер, а на последних рядах слышны были какие-то совершенно другие звуки, возникающие буквально рядом с ухом, живущие как будто своей собственной жизнью. После концерта я подошел к Люсье, выразил свое восхищение и сказал ему, что я сам смог получить такие акустические биения, но на больших интервалах, на что он с удивлением отреагировал «How did you do that?»… А через год я оказался в Нью-Йорке и написал ему — рассказал о своей идее сделать фестиваль его музыки в Москве. Он оказался очень открытым и дружелюбным человеком (в Москве уже он как-то проронил, что в его жизни нет стресса — счастливый композитор!) и, конечно же, поддержал эту идею.
Следующая наша встреча состоялась уже по его приезде на фестиваль – в аэропорту в Москве. По дороге, вспоминая как мы с ним познакомились в Берлине, я ему шутя рассказал о своей живой инсталляции, с которой теперь было сходство уже и с другой его более поздней пьесой – «Ricochet Lady» 2016 года. В ней музыкант также стоит вплотную у стены и играет в её сторону. Я шутя сказал: «Но я написал свою пьесу в 2012 году», на что Люсье ответил: «Тогда я перепишу год создания своей пьесы на 2011».
— Вы преследовали какую-либо определённую цель, организовывая фестиваль?
— Конечно, в первую очередь хотелось, чтобы об этом явлении в музыке узнало как можно больше людей. На мой взгляд, у нас очень не хватает этой культуры понимания и слушания музыки. Да, Алексей Борисович Любимов много пропагандировал Кейджа, но всё же подобная музыка воспринимается у нас скорее как экзотическая. Есть у нас небольшая группа энтузиастов новой и экспериментальной музыки, знающих, любящих и играющих отдельные произведения Люсье, но в целом он был практически не известным. А между тем эта музыка, как я был уверен, задумывая фестиваль, способна ненавязчиво изменить мир человека, делая его более внимательным...
— В итоге все площадки фестиваля были заполнены.
— Да, это был успех. Не было ни одного концерта без аншлага. И судя по реакции слушателей, мои ожидания оправдались: публика аплодировала ему стоя… Я был счастлив это видеть.
"Мне стало интересно создавать такие контексты, в которых «новая музыка» может быть понятой и полюбившейся более широкой аудиторией культурно-ориентированных людей, кто редко сталкивается с новой «академической» музыкой, но кому интересно найти к ней свой путь. А этот путь может лежать и через старинную музыку. После Реквиема я услышал, что кому-то из публики современные части понравились даже больше старинных… "
— Вы говорили, что фестиваль Люсье был очень сложным с точки зрения продюсирования, но это ведь не первый Ваш опыт в ведении проектов? Насколько я помню, первым проектом была организация гастролей швейцарского ансамбля.
— Во первых, он был сложный по финансовым причинам: в России найти деньги для фестиваля американского авангардного композитора, как Вы понимаете, не так-то просто… особенно осложняется это постоянной чередой дипломатических кризисов между нашими государствами. А во-вторых, по задумке это был большой и многосоставный проект с множеством технических деталей и особенной требовательностью к акустике, а для меня как куратора — и к атмосфере залов, где должны были состояться концерты. Дело ведь не только в произведениях, но и в том, как они смогут раскрыться в каждом из возможных мест. Потом нужно было составить такую траекторию путешествия по его творчеству, чтобы интерес у слушателей не исчерпался на полпути, чтобы фестиваль имел свою форму, как одно большое сочинение, стал бы не линейным «смотром» его работ, а единым опытом.
Но проект был сложным и по той причине, что, когда я его задумал в 2013 году, у меня не было ещё подобного опыта. Первый проект, который Вы упомянули, был тогда только в работе. Но с тех пор и до фестиваля я реализовал совместно с разными партнерами еще два других крупных проекта, продолжая попытки организовать фестиваль Люсье. Так что для него мне нужно было созреть.
— А что входило в программу концертов остальных проектов?
— Для первого проекта – «Зарисовки времени» — турне ансамбля Phoenix по пяти городам России, новую музыку для ансамбля написали Алексей Сысоев и я. Также ансамбль исполнял уже существующие сочинения Владимира Раннева и швейцарских композиторов Беата Фуррера, Франца Фуррер-Мюнха и Ханспетера Кибурца.
Вторым проектом был eNsemble + Phoenix — совместные гастроли солистов ансамбля Phoenix и петербургского eNsemble Про Арте. Кстати, они стали первыми московскими гастролями в истории этого прекрасного ансамбля. Специально для этого проекта написали музыку Марина Хорькова, Александр Хубеев, Наталья Прокопенко, швейцарские композиторы Кристоф Шисс и Денис Шулер, а также сыграли уже существующие произведения Сергея Невского, Дитера Аммана и Антуана Шессе. Программа была задумана как современный взгляд на инструментальный концерт российских и швейцарских композиторов.
Но своим первым настоящим кураторским проектом, т.е. проектом в котором была бы не формальная логика единства элементов, а некий исследовательский посыл, некий предполагаемый целостный опыт, я считаю «Реквием памяти Жоскена Депре». Это была рисковая интервенция новыми сочинениями современных авторов в целостное и совершенное произведение эпохи Возрождения – Реквием Жана Ришафора. Новые части, «недостающие» по католическому канону в Реквиеме Ришафора, написали австрийский композитор Клаус Ланг, француз Франк Кристоф Езникян, а также российские — Алексей Сысоев, Владимир Раннев и, собственно, я.
Мне стало интересно создавать такие контексты, в которых «новая музыка» может быть понятой и полюбившейся более широкой аудиторией культурно-ориентированных людей, кто редко сталкивается с новой «академической» музыкой, но кому интересно найти к ней свой путь. А этот путь может лежать и через старинную музыку. После Реквиема я услышал, что кому-то из публики современные части понравились даже больше старинных…
— Для чего Вы создали платформу «Траектория музыки»?
— Для того, чтобы, объединяя усилия разных творческих людей, коллективов и разных культурных институций, создавать такие события новой музыки, о которых иначе можно только мечтать. И когда такие проекты становятся успешными, когда получаешь обратную связь от людей, для которых они стали важным опытом, ты понимаешь, что сделал что-то стоящее. Это очень приятное чувство.
— Элвин Люсье был в Москве ровно 20 лет назад. Проведение фестиваля именно в «юбилейный» год было совпадением?
— Да, это было чистым совпадением — неожиданной и приятной обратной связью от реальности.
— Музыка Люсье – это опыт, который меняет у слушающего его представления о том, какой может быть музыка и как иначе можно её слушать. Люсье открывает слушателю, что из себя представляет звук и акустика пространства, и многие другие природные феномены, которые он как бы «вскрывает», в том числе используя технологию. Ну, и потому что Люсье – важная для истории музыки фигура, и очень хотелось его увидеть и услышать живьём в Москве.
— Почему, на Ваш взгляд, Люсье имеет такое значение для музыки?
—Если говорить о фактах, то он один из пионеров саунд-арта: один из первых создателей звуковых инсталляций, один из первых создателей инструктивных текстовых партитур открытых композиций; первый, кто сделал акустику пространства главным действующим элементом музыки. Он – один из первых композиторов, кто вывел звук из контекста музыкальной композиции, сделав его самостоятельным предметом наблюдения, а наблюдение за действующим звуком – самостоятельным художественным актом.
Во всём своем творчестве Люсье с завидной точностью и последовательностью реализует свою отличающуюся и от европейского авангарда, и от традиционного музыкального мышления творческую парадигму.
Если условно разделить «авангардное» и «традиционное» музыкальное мышление по оси отношения автора к создаваемому им произведению, то на полюсе «авангарда» будет создание нового материала и новых форм, и как результат – нового эстетического опыта автора и слушателя, тогда как на другом полюсе будет порождение автором синкретического артефакта, точно выражающего его личное содержание (чувств и мыслей), которые в идеальном случае должны вызвать у слушателя точно такой же интуитивный отклик.
Конечно же, не инновационность, которая может быть в обоих полюсах в разной степени, их разделяет в корне, а эстетический вектор – в одном случае он от объекта к субъекту, а в другом – от субъекта к объекту. Но важно то, что в обоих случаях – артефакты создаются автором, по авторскому замыслу и по его воле. Люсье же, в его самых знаковых произведениях, на мой взгляд, между этими полюсами не оказывается, потому что он ни создает произвольные формы, ни выражает личного содержания. Он использует в искусстве парадигму экспериментального исследования физической реальности, взятую из мира науки, концентрируясь на каком-либо одном природном феномене и создавая разные процессы их исследования. При этом в каждом его произведении — правила игры заданы и неизменны, а формой целого становится фактическое осуществление одного единого процесса — с его началом, движением по какому-то принципу и его окончанием. А в случае с I am sitting in a room эти правила игры просто произносятся исполнителем вслух и становятся единственным исходным материалом произведения – слушатель перестаёт рефлексировать идеи, перестаёт следить за развитием формы и концентрируется на свойствах звуков и процессе происходящих качественных изменений.
Таким образом, становясь исследователем, он в большой степени свою роль творца атрефактов нивелирует, становясь соавтором с природой, соавтором со всем разнообразием живых процессов, которые произходят во время «экспериментирования» в реальном времени, и даже соавтором со всеми исполнителями, которые также с достаточно большой степенью свободы воспроизводят это исследование — с новым материалом и в новых обстоятельствах.
— А разве исследование и эксперимент не являются также нормальным творческим процессом и для авангардных композиторов?
— Верно, но авангардные композиторы используют их для открытия новых композиционных возможностей — т.е. находят новые идеи для организации звуков, либо находят новые звуки — акустических инструментов или же электроакустические. А найденное они «закрепляют» в конкретных композициях, которые становятся уже классическим законченным текстом. Для Люсье же, как и для других композиторов экспериментальной музыки, сами композиции или перформансы становятся полем исследования — эксперимента с ситуацией, с живым и всегда разным материалом — физическим, биологическим, технологическим. Его эксперимент часто не становится фиксированным результатом, который можно и нужно в точности воспроизводить, как происходит в большинстве случаев в авангардной музыке, а становится принципом исследования каждый раз разной реальности. И это напряжение ситуации зарождающегося здесь и сейчас индивидуального акустического результата — порождает другого рода напряжение внимания уже у слушателя.
"Люсье не интересно в точности осуществлять какие-то теоретические проекции – потому что реальность оказывается интереснее и разнообразнее теоретических моделей."
— А как именно создаётся произведение, акцентирующее наше внимание на акустических свойствах звука?
— Люсье создаёт очень ограниченный набор действий, которые в течение довольно длительного времени повторяются. Поскольку процесс вскоре становится очевидным и наглядным, мы перестаем концентрироваться на действиях и переключаем внимание на эффект от действий, который в какой-то момент из как бы блеклого второстепенного материала нашего «периферического зрения» вдруг становится материалом очень живым и ярким. Мы не слушаем форму, потому что в неё не вложена идея — она либо зависит от внешних по отношению к автору фигур, не имеющих риторической силы выражения (например форма линии горизонта швейцарских гор в одной из его пьес), либо является универсальной и потому предсказуемой абстракцией, не несущей в себе какой-либо частной идеи (как, например, форма сплошной медленной глиссандирующей линии от низкого тона до высокого). Потому мы перестаём обращать внимание на «игру форм». Действия становятся одномерными, а акустические процессы — многомерными и бесконечно разнообразными, как игра языков пламени. Таким образом, мы оказываемся чувствительными к мельчайшим изменениям качеств звука и состояния акустики в каждом последующем моменте времени.
— Композитор экспериментирует вместе с исполнителями или каким-то образом заранее высчитывает, что именно должно получиться?
— Конечно, во время создания он опытно изучает поведение звука. Но часто заранее просчитать точный конечный результат невозможно, и такой задачи не стоит. Люсье принципиально придерживается именно экспериментального типа отношения к музыкальному материалу — и к его созданию, и к исполнению.
У нас было два концерта, на которых Люсье доказал это. Я очень боялся за исполнение его струнного квартета в Мультимедиа Арт Музее, поскольку его фойе не спроектировано для проведения концертов – в нём очень сложная акустика. Я не знал, делать ли усиление, чтобы оказались явными те акустические чудеса, ради которых оно создавалось – без них произведение не состоялось бы. Когда я спросил мнение Люсье, он сказал, что этот вопрос нельзя решить, не послушав конкретное произведение в этом конкретном зале. И затем, когда мы его услышали — к моему удивлению — оно звучало прекрасно! Люсье обратил внимание, что его стратегия была правильной.
А второй случай – это исполнение I am sitting in a room в Камерном зале Дома музыки. Казалось бы, что может пойти не так в профессиональном концертном зале? Но Хауке Хардеру было очень сложно настроить электронику перформанса для этой акустики. Потому что каждый зал звучит совершенно непредсказуемо.
Люсье не интересно в точности осуществлять какие-то теоретические проекции — потому что реальность оказывается интереснее и разнообразнее теоретических моделей. Ему интересно прийти и исследовать реальность, как данность (опять же нивелируя в себе планирующего автора), иногда не желая даже заранее знакомиться с акустикой зала, для которого собирается писать новое произведение. Поэтому всегда, даже в точно нотированной партитуре, он оставляет пространство для экспериментальности живого исполнения.
— Но не становится тогда одно и то же произведение, исполненное в разных залах, разными пьесами?
— Нет, наоборот! Ведь если бы у автора была определенная картина того, что должно произойти, то при следующем исполнении получив отличающийся результат — получилось бы и другое произведение — потому что оно бы не соответствовало изначальному представлению. Идентичность его произведения — не в конечном результате, а в определенном для этого произведения предмете и методе исследования.
— Видимо, именно поэтому при исполнении пьесы Ricochete Lady для колокольчиков инструмент стоял в самом зале, а не на сцене?
— Да, Элвин ставил музыканта в разные точки и слушал, как будет звучать. Ему было абсолютно всё равно, что он не будет стоять на сцене; ему было важно, чтобы звуки ударов по колокольчикам отражались от стен и перемещались в пространстве по интересной траектории.
"Идентичность произведения — не в конечном результате, а в определенном для этого произведения предмете и методе исследования."
— На творческой встрече в консерватории Люсье вспоминал, что его идейный вдохновитель Джон Кейдж однажды сказал ему: «Не используй свое воображение». Что он имел в виду? Люсье на встрече не решился ответить на этот вопрос…
— Это высказывание отражает немного другую, но тоже очень близкую — философию «экспериментального» в искусстве, которой и вдохновился Люсье. Кейджу было интересно всячески препятствовать возникновению структур, которые человек волей или неволей конструирует своим сознанием. Сам он делал это по-разному, например, с помощью случайных цифр. Ему было важно не дать сознанию построить формы, потому что любые созданные им формы — это уже сюжет, высказывание, это уже автор. Не дав им возникнуть, он превращает звуковой материал в самостоятельный объект или в звуковую среду, а не в личное сообщение. Таким образом, он встает на позицию воспринимающего, а не говорящего, он становится не высказывающимся, а наблюдающим. В этом есть дзен-буддийская философия принятия (в противоположность активному действу). И в этом заключается «экспериментальность», «опытность» (от слова experience) — индетерминизма Кейджа. То есть во главу угла становится не воображение и конструирование форм и сообщений, а опыт приятия и восприятия явлений такими, какие они есть сами по себе. Совет Кейджа «Don't use your imagination», которому Люсье, по-видимому, в своё время последовал, означает — не используй свои собственные мысли, не вкладывай своё воображение, дай случиться тому, что может случиться без тебя. Встань рядом и послушай. А если ты используешь своё воображение, то ты уже направляешь процесс.
Элвину Люсье идея случайности и техника индетерминизма Кейджа не близки, так как, по его мнению, в природе, на которую ссылается Джон Кейдж как оправдание своего метода («I immitate nature in her manner of operation»), ничего случайного нет. Всё взаимозависимо и взаимообусловлено. Люсье также, как и Кейджа, не интересует идея самовыражения в искусстве, но интересует выразительность как таковая. Он говорит: если вы посмотрите на реку, вы увидите, что она прекрасна, она в высшей степени выразительна. Но она существует не для того, чтобы себя выразить. И таким же образом может существовать и такая выразительная музыка, которая такова не потому и не для того, чтобы что-то выражать.
Отсюда и другой подход Люсье к исполнению музыки. Он тоже призывает не управлять музыкой своим воображением, своим чувством, своими идеями — а только лишь «исследовать», идти по следам реальности и реагировать на ее обратную связь.
— Расскажите, как пришла идея организовать фестиваль?
— В 2012 году я жил между Германией и Россией, преподавал в консерватории и в то же время стажировался в Дрездене. У меня была возможность посещать различные фестивали, в частности, MaerzMusik. Гостями фестиваля были композиторы группы Sonic Arts Union, включая Элвина Люсье. Я тогда впервые познакомился с его музыкой, посмотрел документальный фильм Хауке Хардера и Виолы Руше о Люсье и понял, что это совершенно потрясающее явление в музыке, которое каким-то образом прошло мимо меня, в том числе потому, что о нём так мало известно в России.
Так получилось, что эта встреча совпала с моими собственными композиторскими поисками. Незадолго до этого я погрузился в изучение различных акустических феноменов и написал пьесу — «Four No Questions» — живую звуковую инсталляцию, как я это называю. Каждый из трех музыкантов располагается у одной из четырёх стен комнаты и играет в направлении стены, т.е. сидит спиной к слушателям, находящихся в центре зала, между музыкантами. Вся эта композиция была теоретически рассчитана, и я предполагал, что этот эксперимент даст интересный звуковой результат, но то, что в итоге получилось, вызвало у меня восторг — это были стоячие звуковые волны, биения и комбинационные тоны, которые, как я уже потом узнал, так любит Люсье.
Буквально через месяц после этого я услышал на фестивале MaerzMusik пьесу Люсье «Navigations for strings» в исполнении Квартета Ардитти. В центре огромного зала Берлинской филармонии компактно сидел квартет и в течение 20 с лишним минут играл постоянно сужающийся до унисона четырехзвучный кластер, а на последних рядах слышны были какие-то совершенно другие звуки, возникающие буквально рядом с ухом, живущие как будто своей собственной жизнью. После концерта я подошел к Люсье, выразил свое восхищение и сказал ему, что я сам смог получить такие акустические биения, но на больших интервалах, на что он с удивлением отреагировал «How did you do that?»… А через год я оказался в Нью-Йорке и написал ему — рассказал о своей идее сделать фестиваль его музыки в Москве. Он оказался очень открытым и дружелюбным человеком (в Москве уже он как-то проронил, что в его жизни нет стресса — счастливый композитор!) и, конечно же, поддержал эту идею.
Следующая наша встреча состоялась уже по его приезде на фестиваль – в аэропорту в Москве. По дороге, вспоминая как мы с ним познакомились в Берлине, я ему шутя рассказал о своей живой инсталляции, с которой теперь было сходство уже и с другой его более поздней пьесой – «Ricochet Lady» 2016 года. В ней музыкант также стоит вплотную у стены и играет в её сторону. Я шутя сказал: «Но я написал свою пьесу в 2012 году», на что Люсье ответил: «Тогда я перепишу год создания своей пьесы на 2011».
— Вы преследовали какую-либо определённую цель, организовывая фестиваль?
— Конечно, в первую очередь хотелось, чтобы об этом явлении в музыке узнало как можно больше людей. На мой взгляд, у нас очень не хватает этой культуры понимания и слушания музыки. Да, Алексей Борисович Любимов много пропагандировал Кейджа, но всё же подобная музыка воспринимается у нас скорее как экзотическая. Есть у нас небольшая группа энтузиастов новой и экспериментальной музыки, знающих, любящих и играющих отдельные произведения Люсье, но в целом он был практически не известным. А между тем эта музыка, как я был уверен, задумывая фестиваль, способна ненавязчиво изменить мир человека, делая его более внимательным...
— В итоге все площадки фестиваля были заполнены.
— Да, это был успех. Не было ни одного концерта без аншлага. И судя по реакции слушателей, мои ожидания оправдались: публика аплодировала ему стоя… Я был счастлив это видеть.
"Мне стало интересно создавать такие контексты, в которых «новая музыка» может быть понятой и полюбившейся более широкой аудиторией культурно-ориентированных людей, кто редко сталкивается с новой «академической» музыкой, но кому интересно найти к ней свой путь. А этот путь может лежать и через старинную музыку. После Реквиема я услышал, что кому-то из публики современные части понравились даже больше старинных… "
— Вы говорили, что фестиваль Люсье был очень сложным с точки зрения продюсирования, но это ведь не первый Ваш опыт в ведении проектов? Насколько я помню, первым проектом была организация гастролей швейцарского ансамбля.
— Во первых, он был сложный по финансовым причинам: в России найти деньги для фестиваля американского авангардного композитора, как Вы понимаете, не так-то просто… особенно осложняется это постоянной чередой дипломатических кризисов между нашими государствами. А во-вторых, по задумке это был большой и многосоставный проект с множеством технических деталей и особенной требовательностью к акустике, а для меня как куратора — и к атмосфере залов, где должны были состояться концерты. Дело ведь не только в произведениях, но и в том, как они смогут раскрыться в каждом из возможных мест. Потом нужно было составить такую траекторию путешествия по его творчеству, чтобы интерес у слушателей не исчерпался на полпути, чтобы фестиваль имел свою форму, как одно большое сочинение, стал бы не линейным «смотром» его работ, а единым опытом.
Но проект был сложным и по той причине, что, когда я его задумал в 2013 году, у меня не было ещё подобного опыта. Первый проект, который Вы упомянули, был тогда только в работе. Но с тех пор и до фестиваля я реализовал совместно с разными партнерами еще два других крупных проекта, продолжая попытки организовать фестиваль Люсье. Так что для него мне нужно было созреть.
— А что входило в программу концертов остальных проектов?
— Для первого проекта – «Зарисовки времени» — турне ансамбля Phoenix по пяти городам России, новую музыку для ансамбля написали Алексей Сысоев и я. Также ансамбль исполнял уже существующие сочинения Владимира Раннева и швейцарских композиторов Беата Фуррера, Франца Фуррер-Мюнха и Ханспетера Кибурца.
Вторым проектом был eNsemble + Phoenix — совместные гастроли солистов ансамбля Phoenix и петербургского eNsemble Про Арте. Кстати, они стали первыми московскими гастролями в истории этого прекрасного ансамбля. Специально для этого проекта написали музыку Марина Хорькова, Александр Хубеев, Наталья Прокопенко, швейцарские композиторы Кристоф Шисс и Денис Шулер, а также сыграли уже существующие произведения Сергея Невского, Дитера Аммана и Антуана Шессе. Программа была задумана как современный взгляд на инструментальный концерт российских и швейцарских композиторов.
Но своим первым настоящим кураторским проектом, т.е. проектом в котором была бы не формальная логика единства элементов, а некий исследовательский посыл, некий предполагаемый целостный опыт, я считаю «Реквием памяти Жоскена Депре». Это была рисковая интервенция новыми сочинениями современных авторов в целостное и совершенное произведение эпохи Возрождения – Реквием Жана Ришафора. Новые части, «недостающие» по католическому канону в Реквиеме Ришафора, написали австрийский композитор Клаус Ланг, француз Франк Кристоф Езникян, а также российские — Алексей Сысоев, Владимир Раннев и, собственно, я.
Мне стало интересно создавать такие контексты, в которых «новая музыка» может быть понятой и полюбившейся более широкой аудиторией культурно-ориентированных людей, кто редко сталкивается с новой «академической» музыкой, но кому интересно найти к ней свой путь. А этот путь может лежать и через старинную музыку. После Реквиема я услышал, что кому-то из публики современные части понравились даже больше старинных…
— Для чего Вы создали платформу «Траектория музыки»?
— Для того, чтобы, объединяя усилия разных творческих людей, коллективов и разных культурных институций, создавать такие события новой музыки, о которых иначе можно только мечтать. И когда такие проекты становятся успешными, когда получаешь обратную связь от людей, для которых они стали важным опытом, ты понимаешь, что сделал что-то стоящее. Это очень приятное чувство.
— Элвин Люсье был в Москве ровно 20 лет назад. Проведение фестиваля именно в «юбилейный» год было совпадением?
— Да, это было чистым совпадением — неожиданной и приятной обратной связью от реальности.
Радио
О нашем фестивале рассказали
Радио Культура, Monte Carlo, Business FM, Радио Шоколад
Узнать о новых проектах
Рассылка анонсов предстоящих событий платформы «Траектория Музыки»
Photo credits: Nicola Albertini
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.